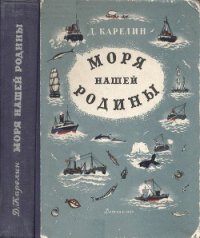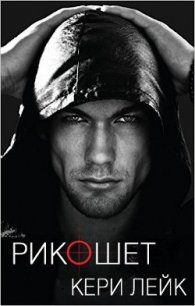Про трех китов и про многое другое - Кабалевский Дмитрий Борисович (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации TXT) 📗
Такое же сочетание чтения, пения и симфонической музыки мы знаем и в знаменитом «Эгмонте» Бетховена, где героическая музыка гениального композитора связана в одно целое с драматической поэзией его великого современника Гёте. В таком же роде написан и пользуется не меньшей любовью слушателей «Манфред», сочетающий романтическую пьесу английского драматурга и поэта Байрона с музыкой Шумана.
Такое же соединение речи с музыкой, чтения — с пением встретим мы и во многих произведениях современных композиторов. Вы сразу же обратите на это внимание, когда будете слушать ораторию Прокофьева на стихи Маршака «На страже мира» или «Патетическую ораторию» на стихи Маяковского Георгия Свиридова, тоже нашего современника, советского композитора. Да и симфоническая сказка Прокофьева «Петя и волк», о которой у нас уже шла речь, тоже ведь относится к такого рода сочинениям…
Есть, наконец, особый вид искусства, в котором чтение и пение, речь и музыка всегда и обязательно идут бок о бок. Это оперетта, искусство, находящееся в таких близких, можно сказать, родственных отношениях с оперой, что зачастую одна ита же труппа, в одном и том же театре ставит спектакли и оперные, и опереточные.
Веселое и жизнерадостное искусство оперетты как бы объединяет в себе два театра — оперный и драматический. И перед артистами оперетты встает очень сложная задача: так переходить от речи к пению и от пения к речи, чтобы переходы эти были совершенно незаметными, естественными. Вот уж кому приходится учиться «петь, как говорить», и «говорить, как петь»! Далеко не каждому артисту удается это!
Иногда разговорный текст, сменяя пение, появляется и в опере. В далекие времена это бывало очень часто и почти в каждой опере: говорились, а не пелись «речитативы» — связки между ариями и хорами, в которых обычно происходили всяческие объяснения между персонажами оперы, не вмешавшиеся в арии. Потом эти речитативы стали уже петь, но музыка их отличалась от музыки арий тем, что находилась, если можно так сказать, на полпути между речью и пением. Композиторы часто ставили в нотах около речитативов пометку: «Говорком».
Иногда, впрочем, музыка сближалась с человеческой речью не только в речитативах, но и в ариях, в отдельных сценах и даже в целых операх. Так возникала музыка, про которую мы обычно говорим, что она написана в «речитативном характере». В «речитативном характере» написаны такие, например, оперы, как «Каменный гость» Даргомыжского, «Женитьба» Мусоргского, «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева…
Произносимый, а не поющийся текст встречается и в новых операх, и вовсе не обязательно так, как это делалось раньше, то есть в речитативах. Он появляется в самых различных местах, но, конечно, в каждом случае для этого есть какие-то свои особые причины.
Вот, например, в «Пиковой даме» Чайковский воспользовался этим приемом всего один раз, но сделал это в важнейшей сцене оперы, где происходит перелом в развитии всего ее сюжета. Напомню вам, что в центре оперы — трагическая любовь Германа и Лизы, бедного офицера и воспитанницы богатой старой графини. Любовь Германа безнадежна. Он, человек без звания, без денег, без положения в обществе, не может и мечтать о руке Лизы. Вся надежда на то, что ему удастся выведать у графини «тайну трех карт», которую она, как говорят, знает, а разбогатев, добиться согласия на брак с Лизой. Но старуха умерла от страха, увидев Германа ночью в своих покоях… Герман томится в мрачной казарме. В ушах назойливо звучат заупокойные напевы, видение графини в гробу мучает его воспаленное воображение… Герман в беспредельном отчаянии…

И вдруг — записка от Лизы! Всего несколько слов: «Я не верю, что ты хотел смерти графини… Я измучилась сознанием моей вины перед тобой! Успокой меня! Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю!» Герман читает, а не поет эти слова. Оркестр безмолвствует. Только одинокий голос кларнета сопровождает печальной мелодией слова Лизы, произносимые Германом…
Записка от Лизы возвратила ему надежду на любовь. Но деньги! Деньги! Графиня унесла с собой в могилу тайну трех карт! Разум Германа с каждой минутой мутится все больше и больше… Что это?! Хлопнула дверь… В комнату врывается бешеный, воющий ветер… И вдруг в одно мгновение все стихает — перед глазами обезумевшего Германа стоит призрак графини…
«Я пришла к тебе против воли, но мне ведено исполнить твою просьбу. Спаси Лизу, женись на ней, и три карты, три карты, три карты выиграют сряду. Запомни! Тройка! Семерка! Туз!.. Тройка! Семерка! Туз!.. Тройка! Семерка! Туз!..»
Эти слова призрак графини поет только на одной, неизменно повторяющейся ноте. Я даже не знаю, пение ли это. Что-то среднее между пением и говором. А когда Герман вслед за призраком повторяет: «Тройка! Семерка! Туз!» — это уже и не говор, и не пение, а какой-то едва различимый шепот.
Так вторжением в оперу простой речи и почти полным приравнением речи к пению Чайковский с поразительным чутьем и мастерством выделил те важнейшие две точки в опере, после которых события с молниеносной быстротой приводят историю трагической любви к ее роковой развязке: Лиза, поняв, что Герман сошел с ума, в отчаянии бросается в Зимнюю канавку, Герман закалывается в игорном доме, так ничего и не выиграв на названных призраком трех картах…
Совсем по-другому вводил речь в свои оперы Сергей Прокофьев. Последняя из его семи опер написана по книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и носит то же название. Книгу вы все, конечно, хорошо знаете, вероятно, и оперу когда-нибудь услышите. Необыкновенно певучая опера — в ней много песен и русских, и самим Прокофьевым сочиненных, много мелодичнейших арий и хоров, песенностью дышат в ней даже все речитативы. А вот два действующих лица не поют ни одной ноты, только разговаривают! Удивительно, правда?
Нет! Ничего удивительного в этом нет! И вы сразу же со мной согласитесь, как только я скажу вам, что эти действующие лица — их имена Федя и Серёнька — колхозные ребятишки и что обоим им, вероятно, лет по десять, не больше. Изображать на сцене таких ребятишек взрослые артисты, разумеется, не могут, а маленькие артисты — учащиеся театральной школы — сыграть такие роли смогут, но уж с пением у них, конечно, ничего не получится. Если бы даже они и запели, как поют многие голосистые ребята в детских хорах, то все равно с большой оперной сцены, рядом с голосами настоящих оперных артистов, их детские голоса прозвучали бы и слишком слабо, и неестественно, и, может быть, даже смешно.
И вот сцена: Алексей Мересьев, советский летчик, сбитый немцами над вражеской территорией, полз несколько суток с перебитыми и отмороженными ногами полз к своим на четвереньках, по-звериному, от сосны к сосне вперед… от пенька к пенечку вперед… от сугроба к сугробу вперед… Полз, изнемогая от страданий, от голода и жажды… Полз, питаясь еловой корой и снегом… И дополз наконец до родной земли… Почувствовал в кустах какое-то движение.
«Друг или враг? Зверь? Человек?» — поет тихим, еле слышным голосом Алексей.
А в кустах шепот: «Человек? Не человек вовсе». Это Федя и Серёнька по-ребячьи проявляют сверхбдительность.
Услышал их голоса Алексей и не верит своему счастью: «По-русски, говорят по-русски. Именно по-русски!»
А в ответ снова из кустов голоса наших юных разведчиков:
«Эй! Ты кто? Дейч? Ферштеешь? Что ты тут делаешь?»
«А вы кто?» — поет Алексей, собрав последние остатки сил.
И опять голоса из засады: «Ты нам шарики не крути. Не обманешь. Я немца за пять верст по духу узнаю. Ты есть дейч?»
Какая удивительно живая сцена! Трогательная, волнующая и правдивая. И как тонко нашел Прокофьев единственную возможность воплотить ее в опере: смело сочетать пение с речью…