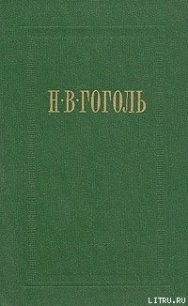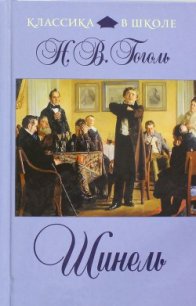Гоголь в русской критике - Пушкин Александр Сергеевич (читать книги полностью без сокращений бесплатно TXT) 📗
До сих пор он не давал ему полной воли, потому что это могло внести поспешность там, где требовалось эпическое спокойствие, соответствующее эпическому застою русской жизни. Теперь же как бы ни разыгралась его фантазия, — все ее источники покоятся в области найденной им правды. Никакие преувеличения, никакая сгущенность красок, никакая быстрота в смене настроений не изменят высшей, художественной правде. И если в четвертом действии этот кипучий искрящийся темперамент выливается в ряд быстрых и шаловливых сцен, то в последнем он весь сгущается для того, чтобы сосредоточиться на большом финале комедии. Этот финал представляет одно из самых замечательных явлений сценической лите ратуры. Вы его отлично знаете. Пользуясь теми же неожиданностями, которые гениальны по своей простоте и естественности, Гоголь выпускает сначала почтмейстера с известием, что чиновник, которого все принимали за ревизора, был не ревизор, потом, углубляясь в человеческие страсти, доводит драматическую ситуацию до высшего напряжения и в самый острый момент разгара страстей дает одним ударом такую развязку, равной которой нет ни в одной литературе. Как одной фразой городничего он завязал пьесу, так одной фразой жандарма он ее развязывает, — фразой, производящей ошеломляющее впечатление опять-таки своей неожиданностью и в то же время совершенной необходимостью.
Но было бы легкомыслием считать этот финал только эффектным «театральным ударом». Еще после того, как письмо Хлестакова прочтено, несмотря на беспрерывный гомерический хохот, вы чувствуете, как комедия быстро, неуклонно и с изумительной правдивостью начинает вздыматься до трагических высот. Мало того, вы чувствуете, как конкретный, бытовой случай переживания городничего и его окружающих, силою мощного темперамента и всеобъединяющей мысли поэта, вдруг освещается ярким, широким обобщением, которое в знаменитой «немой сцене» словно срывает внезапно все покровы быта и обнаруживает единую человеческую душу в ее огромном потрясении. Сколько раз вы ни смотрели «Ревизора», как ни были вы подготовлены, вы всегда бывали захвачены этим финалом, поразительным по красоте, по силе экспрессии, по необычайности и совершенной неожиданности формы, по вдохновенному сценическому расчету. Вспомните хорошенько, как ваши нервы доходили до высшего напряжения именно потому, что немая картина держится долго, очень долго. Вся аудитория так же застывает в немом лицезрении, как и действующие лица на сцене. Неразрывная связь сцены с театральной залой достигает здесь идеальной силы.
Автор в своей ремарке требует, чтобы сцена держалась полторы минуты. Кто знает, — быть может, много раз переживая эту сцену, стараясь испытать все впечатление, какое она должна произвести в театре, — поэт почти точно вычислил длительность ее. Но, насколько мне известно, не было случая, чтоб она длилась более 52 секунд. И когда я спрашивал суфлера, который должен давать занавес, чем он руководствуется, то он ответил: «Я даю занавес, когда если бы еще секунда — и мое сердце разорвалось бы».
Великий драматург достиг того, что «толпа, ни в чем не сходная между собою», весь вечер «смеялась одним всеобщим смехом» и в конце «была потрясена одним потрясением».
А. В. Луначарский
Н. В. Гоголь [508]
Страшная судьба Гоголя. Вообще трудно себе представить во всей истории русской литературы более трагический образ. Его острый черный силуэт тем более ранит, что ведь одновременно с этим Гоголь — царь русского смеха.
Несмотря на то, что при малейшем усилии памяти в вашем мозгу возникают сотни комических положений, карикатурных фигур и физиономий, уморительных словечек, все же крайне трудно, мне по крайней мере, представить себе веселого Гоголя.
Конечно, над его остроумием хохотала вся читающая Русь, от наборщиков, у которых шрифт валился из рук от смеха, [509] до Пушкина, и продолжает хохотать сейчас в лице каждого нового ученика школы первой ступени, у которого расплываются губки над книжкой Николая Васильевича.
Опираясь на портрет, стараешься представить себе украинца с узкими, смеющимися, орехового цвета, искрящимися лукавством и наблюдательностью глазами, с обильными, тщательно причесанными волосами, полного своеобразной самоуверенности, готового подчас на хлестаковские выходки, вечно впитывающего в себя все курьезное и перерабатывающего этот материал в бессмертный смех.
И никак не можешь удержать перед собою этого образа. Он заслоняется вновь другим Гоголем: желтым, худым, как скелет, обтянутый кожей, с неестественно вытянутым носом, с потухшими глазами, согбенным, угловатым, бесконечно скорбным, убитым, задумчивым, движением руки бросающим лист за листом свою рукопись в огонь, помешивающим щипцами, в то время как лицо его странно озаряется пожирающим его душу при виде этих листочков огнем, который играет в глазах, потускневших, ушедших в себя и переставших даже быть печальными от бесконечной муки.
Конечно, с самого начала в Гоголе было много противоречий, с самого начала душа его была богата элементами мучительными.
Мы знаем, например, что он был болезненно, почти отвратительно честолюбив. Ум его был занят грандиозными мечтами, граничащими с манией и иногда делавшими его каким-то гениальным Недопискиным. Это честолюбие заставляло его все время браться за разрешение проблем, абсолютно не бывших ему по плечу. И свою болезненную развязность он сам распял потом не только со смехом, но и с внутренним страхом и раздражением в фигуре Хлестакова.
Это непомерное честолюбие, ревнивое и подозрительное, легко получало раны. Горестное положение «русского сочинителя» усугубляло такие возможности. Не будь даже в Гоголе этих хлестаковских замашек, то и тогда самолюбию его жизнь нанесла бы железные щелчки. А при своеобразном сдержанном «империализме» его щелчков таких приходилось переживать очень много. И тут вырисовывалась другая сторона Гоголя-Хлестакова — его огромная неуверенность в себе.
Это ведь часто бывает: много внешнего апломба, большие запросы, грандиозные мечты, и за всем этим, рядом со всем этим, целая пропасть робости, робости провинциала, робости человека, у которого никогда не ладилась половая жизнь, робости, подчас повергавшей Гоголя в настоящую одичалость и грубую замкнутость.
Вероятно, часто бывало, что вспенившиеся порывы Гоголя, его волшебные постройки распадались от какого-нибудь толчка. Тогда он угасал весь, фейерверк портился, он становился похожим на какую-то мокрую ворону, забившуюся в угол и пугливо насупившуюся. [510]
Кто же не знает теперь, что Гоголь был романтик и вместе с тем натуралист. Его положительные типы даже в сказочных его произведениях всегда трафаретны и лубочны; например: знаменитые описания его, припомним хотя бы «Днепр», не имеют ничего общего с действительностью и сбиваются на велеречивые фразы. [511]
Это не значит конечно, чтобы Гоголь-романтик был вообще слаб. Нисколько. Навеки и для всех живут в его произведениях многие поверья украинского народа, навеки и для всех созданы им сказки, то неудержимо смешные, то непобедимо страшные. И просто выбросить Гоголя-романтика и просто сказать, что живым и интересным он становится только тогда, когда опирается на конкретные, материальные рожи и сцены из помещичьей Печенегии, конечно нельзя.
Удовлетворяла ли романтика Гоголя какую-нибудь сторону его души? Конечно, это не было случайно, это не было какое-нибудь постороннее влияние, скажем, Гофмана или других. Романтика и фантастика Гоголя были совершенно законным плодом его природы.
Гоголь, как и Горький, страстно хотел красоты. Это общая черта, присущая почти всем художникам, но можно сквозь их произведения прощупать, каков их рай, каковы пределы их мечты в области красивого в соответственном смысле этого слова.
508
Впервые напечатано в «Красной нови», 1924, № 12, стр. 284–286.
509
См. прим. к стр. 3.
510
Это несправедливая и ошибочная оценка.
511
Это неверная оценка и всего характера творчества Гоголя и его знаменитого описания Днепра.