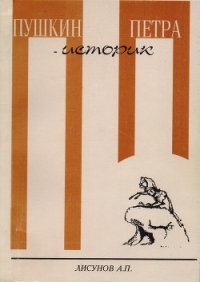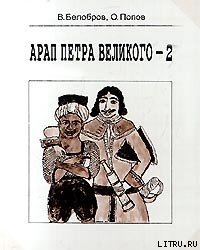Пушкин - историк Петра - Лисунов Андрей Петрович (читать лучшие читаемые книги txt) 📗
Вместе с комментарием к Джону Теннеру Пушкин опубликовал в “Современнике” статью “Мнение М.Е.Лобанова о духе словесности”, написанную еще в разгар истории с “Выздоровлением Лукулла”, где прямо выразился: “Нельзя требовать от всех писателей стремиться к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других” (XII,69). И хотя Пушкин писал о свободе выбора жанра, в условиях того времени это вполне могло быть воспринято, как призыв к свободомыслию. 13-14 сентября поэт представляет цензуре отрывок из записок “О древней и новой России” Карамзина: “отрывок, заключающий краткое обозрение древних времен, и из новой истории некоторые места, относящиеся до царствования Петра Великого, Анны Иоановны и Екатерины Великой” 184. Более месяца рукопись ходит по правительственным инстанциям, и наконец, ее запрещают с довольно многозначительной формулировкой: “так как она в свое время не предназначалась сочинителем для напечатания” 185. Вероятно, при дворе были хорошо осведомлены об обстоятельствах возникновения записок. Такая формулировка закрывала всякую возможность публикации карамзинской рукописи, а вслед за ней появление “Истории Петра” и “Медного всадника”, как бы развивающих идеи признанного историографа.
Незадолго перед этим Пушкин видится с Корфом и вскоре получает от него известную библиографию Петра. Вместе с благодарностью поэт пишет строки, которые, по мнению Попова, свидетельствуют, что “до конца своей жизни Пушкин считал себя плохо ориентированным в литературе, касающейся эпохи Петра I”186: “Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна” (XVI, 168). Фейнберг справедливо замечает, что библиография Корфа состояла из большого числа компилятивных работ, с которыми Пушкин не обязан был знакомиться. К тому же письмо наполнено самоиронией: “Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природав особенности)” (XVI,1263) - и по существу является перифразой дежурной отговорки Пушкина Только Келлеру он проговорится: “Эта работа убийственная (...) если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее” 187. Незадолго до смерти, чувствуя приближение скорой развязки , поэт сознается близкому человеку -Плетневу - по словам Никитенко, “что историю Петра никак нельзя писать, то есть ее не позволят печатать” 188.
Но в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года он вроде бы противоречит себе, называя Петра “целой всемирной историей”. Письмо это обязательно надо рассматривать в сопоставлении с черновиком, раскрывающим сложный характер пушкинской мысли. Начинается он утверждением, что “Петр Великий укротил дворянство, опубликовав Табель о рангах, духовенство - отменив патриаршество” (XVI,260). Пушкин делает исторический вывод: “До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того, чтобы ее упрочить”, т.е. остановить, поскольку “Средства, которыми достигается революция, недост аточны для ее закрепления” (XII, 205), а затем повторяет еще более эмоционально: “Вот уже 140 лет как (Табель о рангах) сметает дворянство” (XVI,260). Однако поднятая Чаадаевым тема требовала иного интонационного и содержательного разговора. Существовала связь между Петром и общественным цинизмом - в том же разрушении традиционных устоев России но довольно опосредованная и тщательно маскируемая властью. Пушкин понимая, что может увязнуть в доказательствах, переписал письмо, оставив нетронутым один вывод: “Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом , справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству - поистине могут привести в отчаяние”. О своем отношении к Петру Пушкин умолчал, назвав его “всемирной историей”, потому что, с одной стороны, всемирная история ни плоха и ни хороша, а речь шла о сопосталении западной и российской культуры, а с дру гой - Чаадаев и так знал мнение поэта о Петре из недавних разговоров в Москве. Но Пушкин все же не отослал письмо, видимо, понимая, что в таком виде оно лишь укрепит друга в его прозападном настроении.
К тому времени стало очевидным, что издательская деятельность поэта терпит убытки - вместо ожидаемых 2500 подписчиков Пушкин едва набрал 700. Финансовый крах журнала означал потерю всякой, даже теоретической надежды выбраться из нужды и вернуть себе независимость. Поэт пытается исправить положение -готовит к публикации “Капитанскую дочку”, издает миниатюрного “Евгения Онегина”, пишет одну-две тетради “Истории Петра” (вероятно, “1700”-“ 1702” годы). “Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени; в этом году я довольно плохо устроил свои дела” (XVI, 1342), - сообщает он отцу. Пушкин пытается отвлечься разбором бумаг, привезенных А.И.Тургеневым из Франции, и разговорами: “Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины И” 189.
Перед смертью поэт пишет начало статьи “О Мильтоне и Шатобриановом переводе Потерянного Рая”, где есть следующие строки: “Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба (...) Тот, кто, поторговавшись немного с самим собой, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью” (XII, 144). 11оследнее обстоятельство особенно волновало Пушкина. На полях письма Вяземского к Уварову по поводу книги Устрялова “О системе прагматической русской истории” Пушкин написал об историческом труде Полевого: “...он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести” (XVI, 1339)ловлов. Именно такой труд не хотел делать поэт под руководством и покровительством царя. Но издать самостоятельно “Историю Петра” Пушкин не мог, и возможно, есть доля истины в свидетельстве А.Н.Вульф: “Перед дуэлью Пушкин не искал смерти: напрот ив, надеясь застрелить Дантеса, поэт, по свидетельству близкого к нему современника, располагал поплатиться за это лишь новою ссылкою в Михайловское (...) и там, на свободе предполагал заняться составлением “Истории Негра Великого”” 190. Действительно, трудно предположить другую причину, которая заставила бы царя отпустить поэта, сохранив за ним право самостоятельно опубликовать историческое произведение. Но как бы то ни было, само возникновение подобного слуха уже свидетельствует об особой, понятной современникам, роли “Истории I Ierpa” в творческой судьбе поэта.
Все иностранные дипломаты, сообщая о смерти поэта, подчеркивали официальный статус нахождения Пушкина при дворе. “Император поручил ему написагь историю I Ierpa Великого, и г.Пушкин в последние годы занимался изучением и исследованиями, необходимость коих вытекала из столь огромной задачи”,- замечает, например, секретарь шведо-норвежского посольства Густава Нордин и добавляет: “...те, кому довелось познакомиться с отрывками, написанными им уже на эту тему, способную действительно вдохновить русского историка, вдвойне оплакивают его преждевременную кончину” 191. Скорее всего, Нординг имел в виду общение с Пушкиным, отмеченное в дневнике поэта: “Разговор с Нордингом о русском дворянстве, о гербах (...) Гербы наши все весьма новы. Оттого в гербе князей Вяземских, Ржевских пушка. Многие из наших старых дворян не имеют гербов”. Понятно, что Пушкин высказывал критическое отношение к Петру. Наверное, поэтому на прошении Жуковского о дозволении напечатать “Материалы для истории Петра Великого” царь написал: “Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого” (Х,482). И все же спустя три года он разрешил, хотя и не без купюр, публикацию пушкинской работы, но она не нашла заинтересованного издателя. Принято считать, что именно эти цензурные изъятия, профессиональные и точные, по мнению Фейнберга, повредили книге. Но они были немногочисленны и смысл пушкинской работы нс изменяли, хотя и делали несколько расплывчатым. Не следует забывать, что свободолюбивая лирика гонимого властями поэта в самом искаженном и порой нелепом виде доходила до читателя, потому что она была нужна ему. В чиновной, полуинтеллигентной России, возлюбившей своего преобразователя, пушкинский груд вызвал недоумение и был решительно отторгнут.