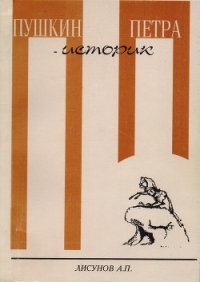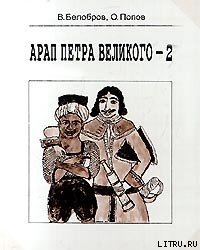Пушкин - историк Петра - Лисунов Андрей Петрович (читать лучшие читаемые книги txt) 📗
В целом Пушкин видит в молодом царе смесь самых разнобразных человеческих качеств, способных вызвать замешательство: “Во время сего путешествия государь однажды в пьянстве выхватил шпагу противу Лефорта и просил потом у него прощения” (Х,34). Но в то же время: “Петр однажды в Сард.<аме> оттолкнул мальчика, который бросил в него гнилым яблоком, что Петр перенес терпеливо” (Х,35). Самостоятельность Петра вызывает уважение: “Иногда ходил закупать припасы на обед, и в отсутствии хозяйки сам готовил кушание. Он сделал себе кровать из своих рук и записался в цех плотников под именем Петра Михайлова” (Х,35). Любознательность царя впечатляет: во время путешествия “Петр выходил часто из коляски, обращая свое внимание на земледелие, срисовывал незнакомые орудия, расспрашивал и записывал” (Х,34). Но в любопытстве его была некоторая избыточность, всеядность: “Петр потом ездил в Амстерд.<ам>, где осмотрел купст-камеру, матем.<атические> инстр.<ументы” и мини-кабинеты, звериные и птичьи л,воры (menageries), церкви, между коими очень полюбилась ему квакерская; в синагоге видел обрезание младенца; посетил он и зазорные дома (бордели) с их садами; видел 20 сиротских домов, дом сумасшедших; собрание ученых; слушал их диспуты” (Х,36). Петр -сторонник демократического поведения: “Лондон ему нравился, “потому что в нем богатые люди одеваются просто”” (Х,39). Но очевидно, что в стремлении к этой простоте, Петр не учитывает привычки и удобство других людей: “Увидевшись с датскою принцессою Анною, он подвинул ей стул и сел, сказав ей: “так нам будет покойнее”” (Х,39).
“Деятельной, веселой и странной” назовет поэт молодость Петра. Намерения его высоки: ““Мы, последуя слову божию (писал, он к патриарху от 10 сент.<ября>), бывшему к праотцу Адаму, трудимся; что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы искусяся совершенно, могли возвратиться и противу врагов имени Иисуса Христа победителями, благодатию его, быть” (X, 35). Однако Пушкин не без иронии замечает как царь исполняет свои государственные обязанности: “Получив известие, что в Польше произошли смятения в пользу принца Кости, Петр из плотнического сарая послал повеления войску своему двинуться на помочь Августу” (Х,37). Анализируя эти и другие страницы из новой редакции “Истории Петра”, не надо забывать, что Пушкин писал их не только с оглядкой на цензуру, но и для читателей, уже знакомых с его “Стансами” и главами романа “Арап Петра Великого”. Переход к новому пониманию Петра следовало объяснить. То, что поэт говорил открытым текстом в первом черновике, называя реформатора “протестантом царем”, сначала присутствует лишь в форме намека. Но уже с третьей тетради Пушкин все чаще начинает употреблять прямые характеристики деятельности Петра. Так усмирение стрелецкого бунта, из-за которого царь прервал свое путешествие, поэт называет “ужастным предприятием” (Х,42). Вспомним, что ранее “страшным делом” Пушкин называл только убийство царевича Алексея. Совсем недвусмысленно звучит следующая фраза: “Начались
казни......Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя” (Х,42,43).
Особое внимание Пушкин уделяет внутренним преобразованиям Петра. Одной фразой поэт говорит о своем отношении к истинному характеру проводимых реформ: “Он являлся на улице с одним или тремя денщиками, скачущими за ним” (Х,43). Пушкин намеренно опускает обязательное дополнение - за быстро идущим царем. Денщики скакали, потому что на самом деле скакал и царь, а не двигался семимильными шагами, как принято думать. В результате: “Бояре принуждены были распустить своих дворовых. Сии разжиревшие тунеядцы разбрелись, впали в бедность и распутство. Петр, обещая им ненаказанность, призвал их в службу (...) Петр обнародовал, чтоб никто не надеялся на свою породу, а доставал бы чины службою и собственным достоинством” (Х,43,44). Утилитарный характер политики Петра очевиден, а аппетит огромен: “Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю; но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы”(Х,45). Пушкин не против стремления Петра к образованности, но вряд ли само сближение следовало понимать столь формально: “Тогда же состоялся указ - всем русским подданным, кроме крестьян (?), монахов, попов и дьяконов - брить бороду и носить платье немецкое (...) Ослушникам брать пеню в воротах (Московских улиц) с пеших 40 коп., с конн.<ых> - по 2 р. - Запрещено было купцам продавать и портным не шить русского платья под наказанием (кнутом?)” (Х,46). Получалось, что царь цивилизовал народ варварским способом. Поэт замечает: “Поведено с наступающего года вести летоисчисление с рожд.<ества> Хр.<истова>, а уже не с сотв.<орения> мира, а начало году считать с 1-ш янв.<аря> 1700 <года>, а не с 1-го сент.<бря> (...) Никогда новое столетие от старого так и не отличалось” (Х,47). Думается, Пушкин не случайно поставил союз “и” после частицы “так”
- при всем внешнем несходстве встреч двух столетий, варварство нового ничем не отличалось от старого.
В начале следующей тетради за “1700 год” поэт повторяет ту же мысль: “Петр указом от 15 дек.<абря> 99 года обнародовал во всем государстве новое начало году (...) Накануне занял он московскую чернь, ропщущую на всякую новизну, уборкою улиц и домов (...) Между тем из разных частей города войско шло в Кремль с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою” (X, 50). Все напоминало очередной триумф царя после военной победы. Духовенство, подмятое Петром, приняло перемену и согласилось участвовать в царском маскараде: “Потом государь угощал как духовных, так и светских знатных особ; придворные с женами и дочерьми были в немецком платье. Во время обеда пели придворные и патриаршие певчие” (X, 50). “Народ однако роптал. Удивлялись, как мог государь переменить солнечное течение, и веруя, что бог сотворил землю в сентябре месяце, остались при первом своем летосчислении...” (X, 50) Интересно, что и князь Щербатов, спустя многие годы , в своих сочинениях продолжал употреблять двойную дату.
Вместе с тем, поэт отмечает и положительные стороны петровских преобразований, связанные с развитием подлинной образованности: “Петр послал в чужие края на каз.<ненный> счет не только дворян, но и купеческих детей, предписав каждому явиться к нему для принятия нужного наставления (...) Своим послам и резидентам подтвердил он о найме и высылке в Россию ученых иностранцев, обещая им различные выгоды и свое покровительство (...) Возвращающихся из чужих краев молодых людей сам он экзаменовал (...) Тех же, которые по тупости понятия или от лености ничему не выучились, отдавал он в распоряжение своему шуту Педриеллу (Pedrillo?), который определял их в конюхи, в истопники, не смотря на их породу” (Х,50,51). Опять же Пушкин вроде бы на стороне Петра, но читатель чувствует в описании деятельности самодержца некоторую двусмысленность. Стремление все проконтролировать - верный признак неестественности поведения, а неуважение к “породе” - особенно в глазах читателя-дворянина - факт невежества. Даже враги Петра понимали, к чему ведет этот путь: “Крымский хан старался всеми силами воспрепятствовать миру между Россией и Турцией. Он писал к султану, что Петр, ниспровергая древние обычаи и самую веру своего народа, учреждает все на немецкий образец (...) что, ежели султан не закончит мира, то сей опасный нововводитель непременно погибнет от своих подданных...”(Х,51,52).
Невоздержанность Петра очевидна и в военных вопросах: “Петр был столь же озлоблен; и когда анш <ийский> и голл.<андский> министры вздумали было от войны его удерживать, то он, в ярости выхватив шпагу (см. Катифорос), клялся не вложить оной в ножны, пока не отомстит Карлу за себя и за союзников. Если же их державы вздумают ему препятствовать, то он клялся пресечь с ними всякое сообщение и обещал удержать у себя (в подражание Карлу) имения их подданных, находящихся в России” (Х,52). Пушкин подчеркивает отсутствие какой-либо принципиальной разницы между характером Петра и Карла, но замечает: “Петр однако всем шв.<едским> подданным позволил выезд из России, удержав одного резидента, который и сам просился остаться на полгода” (Х,53). Мысль Пушкина ясна - подражание иностранцам, использование их на ответственных постах, сулило убытки государству. Как и в первом азовском походе, при взятии Нарвы: “Открылась измена. Бомбардирской капитан Гуморт, родом швед, бывший в одной роте 1-м капитаном с государем, ушел к неприятелю. Петр, огорченный сим случаем, всех шведск.<их> офицеров отослал внутрь России, наградив их чинами...” (Х,53). Пушкин подробно описывает вероломство Карла при пленении дивизии Головина. Иначе звучало из уст шведского короля и в общем-то справедливое обращение к народу: “Из Нарвы распустил он свои манифесты (3 дек.<абря> 1700 <года>), в коих возбужал он россиян к бунту противу царя, описывая его жестокости etc., обещая всем свою королевскую милость и 1розясь в случае ослушания истребить все огнем и мечем. Но русские остались верны” (Х,55,56). И все же поведение Карла удивительно напоминало поведение самого Петра. Русский царь не только не прекратил общение с иностранцами: “Через свои манифесты приглашал он из Германии всяких мастеров и художников, пришельцы являлись толпами и были всюду употреблены” (Х,61), но и продолжил наступление на традиционные ценности своего народа, грозя ему казнями и кнутом. “В 1701 году учрежден Монастырский приказ (...) определив каждому монастырю оклад, оставя слуг монастырских самое малое число (слова Петра) (Х,61) (...) 16-го ноября скончался последний патриарх Адриян. Петр, отложив до удобнейшего времени избрание нового патриарха, определил митр.<ополита> ряз.<анского> Стефана Яворского к управлению церкви, повелев ничего важного без ведома государя не решать” (Х,62). Конечно, это привело к новым волнениям: “Ропот ужасно усилился. Появились подметные письма и пророчества, в коих государя называли анти-Христом, а народ призывали к бунту” (Х,62). Царь отреагировал на это странным образом: “Петр запретил монахам иметь в келлиях бумагу и чернила -и настоятели должны были отвечать за тех, коим сие дозволяли. Типографщик Талицкий, обличенный в напечатании подметных писем, был казнен с своими соучастниками^)” (Х,62). На этом фоне дико и страшно смотрелись забавы реформатора: “Свадьба шута царского Шанского. Насмешки над старыми обычаями etc.-Царя в старинном одеянии представлял к.<нязь> Ромодановский, Зотов - патриарха; царицу (в особой палате) жена Ив. Бутурлина. Петр был в числе морск.<их> офицеров” (Х,62). Здесь, по существу, и прерывается работа Пушкина над повторной переработкой “Истории Петра”.