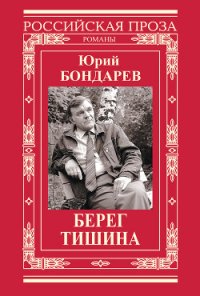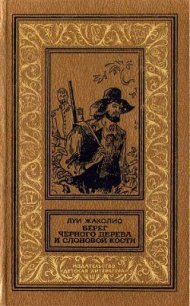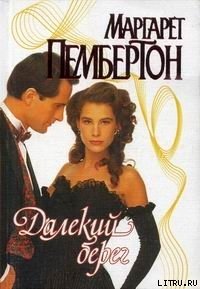Остановка в Чапоме - Никитин Андрей Леонидович (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
Уже 1981 год принес первые долгожданные перемены, хотя и они были спущены сверху. Но подготовлены они были всем ходом жизни. Все, о чем раньше писали обиняками, иносказательно или предположительно, с обязательной оговоркой "возможно, я здесь не прав, но...", стало явным и гласным. Так началась новая революция, в которой уже звучат настоящие, а не фигуральные, выстрелы; революция, предполагающая годы ожесточенной борьбы со всеми теми, кто отстаивает привычный для себя "образ жизни", обусловленный бесконтрольностью власти и бесправием народа. Север был только дальней окраиной царства мафий и организованной преступности, но именно он оказался для меня "полем Куликовым", которое я не мог миновать. Здесь особенно явственно представали последствия экономической и экологической катастрофы, захватившей шестую часть земного шара, чьи истинные размеры и силу мы до сих пор еще не можем оценить.
Поморам нужна была помощь. Сначала - помощь гласности в перестройке экономики; затем - тем людям, которые перестройкой занимались, потому что именно на них упал первый, самый тяжелый удар их противников. Три года шла борьба за справедливость против лапландской Фемиды и мурманских "охотников на ведьм", которых надежно защищала коррупция. Лишь перед самым отъездом из Москвы, пройдя по второму и третьему кругу, удалось добиться протеста Прокуратуры РСФСР против мурманского произвола и беззакония.
Оправдание Гитермана и трех председателей колхозов должно было стать началом отсчета нового времени не только для Берега, но и для всех нас. А для меня еще и знаком, что определенный виток моей жизни, вобравший в себя Берег, подошел к своему логическому завершению.
Все было, как обычно,- и в Мурманске, и здесь, на Берегу. Но в какой-то момент у меня возникло странное ощущение: я как бы вписан в судовую роль, давно сжился с командой и судном и вдруг обнаруживаю, что стою не на палубе, а на причале. Корабль уже отдал швартовы, сдвинулся с места, набирает ход, между нами растет полоса воды, общий разговор давно превратился в монолог, он вызывает улыбки понимания, приветственные жесты... но эти жесты одновременно и жесты прощания!
И вот теперь, шагая по старой поморской тропе, я понимаю, что иначе и не могло быть. Всему приходит конец - работе, любви, поискам, тебе самому. Меняется не время - сменяются поколения. Сейчас новое поколение берет в свои руки правило кормщика, оно перестраивает этот мир для себя, по своим меркам, говорит на своем языке и в общем-то довольно успешно справляется с проблемами, над которыми мы бились столько лет. И в новой обстановке пришедшие разбираются гораздо лучше нас уже потому, что не помнят ни керосиновых ламп, ни войны и голода, ни жизни без телевизоров и компьютеров. С самого начала их мир обнимал весь земной шар, был построен на транзисторах, связан "спутниками", и космические новости для них такая же обыденность, как утренняя сводка погоды.
Не хочу сказать, что они умнее нас,- такими они еще станут, но уже сейчас они свободнее и решительнее, чем были мы. Они знают, чего хотят добиться. Наши рецепты для них непригодны, как и наша осторожность, от которой нам трудно избавиться потому, что, пережив все зигзаги нашей истории, с грузом своих лет мы несем неизбывную память о тех десятках миллионов наших отцов, матерей, братьев и сестер, которые погибли от голода, болезней, пыток, пули охранника и ножа уголовника в лагерях Воркуты, Соловков, Караганды, Колымы, Норильска, на строительстве Беломорканала, в архангельских и вологодских лесах, в песках форта Шевченко, в застенках Крестов, Лубянки, Лефортова и многих других местах.
И все же, несмотря на вбиваемый с детства страх, многие из нас сумели сохранить то лучшее в себе, что досталось нам в наследство от прошлого: плюрализм мышления, доброжелательность к людям, привычку отвечать за свои слова, обязательность в отношениях и даже "старомодные" идеалы, так дисгармонирующие с бытом современного общества, давно переступившего грань, отделявшую его от общества преступного мира. Не в этой ли нерасторжимой связи с давно погибшей европейской культурой оказалась наша главная трагедия раздваивающегося сознания?
Странно, что эти мысли кристаллизуются именно сейчас, на старой тропе, то тянущейся заросшей колеей среди многоцветья трав, то сбегающей на рифленный волнами песок, обнаженный отливом.
Видимо, только теперь, совершив за прошедшие десятилетия своего рода восхождение от этих песков, тундры, прибрежного галечника, от поморских сел с их обитателями до областного центра, в котором решались судьбы этих людей и этих сел, где шли ожесточенные схватки между сторонниками перестройки и ее противниками, которые пока еще одерживают победы, я смог ощутить и пафос, и трагизм здешней жизни.
Все дело в мерке, с которой подходишь к людям. В умении разглядеть в повседневности самоотверженность, принципиальность, и самый что ни есть подлинный героизм людей, на плечах которых, как на атлантах, зиждется основание нашей жизни. Нет ничего труднее, неподъемнее, бесконечнее, а главное - изматывающе, чем труд на земле и на море. А выключи его из жизни - и вся она разом остановится. Сначала захудеет и захиреет, как это произошло здесь, а потом и совсем кончится. Потому как хотя и "не хлебом единым жив человек", но и без хлеба этого, в каком бы виде он ни представал, жить человек физически не может...
Вот и получается, что те, о ком я писал, не литературные только, а самые настоящие герои тех дней: и Федор Осипович Логинов, рыбак, оленный пастух, не присевший праздным до самой смерти, и семья Каневых, и Немчиновы из Чапомы, и пялицкие Тетерины, и Петр Самохвалов, в любую погоду собиравший по тоням рыбу и выезжавший к "Соловкам", чтобы снять пассажиров, хотя это ему ни в какие обязанности не входило... А разве не подвигом была вся жизнь Стрелкова, боровшегося за колхоз, за Чапому, не сдававшегося под напором местных властей, если он полагал, что именно так, а не иначе должен поступать?
Что мешало каждому из них уехать - в город, в более теплые края, к необременительной - "не пыльной" - и куда лучше оплачиваемой работе, не требующей ни высокого накала душевных сил, ни повседневной ответственности за людей? Что держало остальных их односельчан, их сыновей и внуков, возвращающихся на Берег, чтобы именно здесь, на земле отцов, бороться "за нашу и вашу свободу"? Ведь не только чтобы выжить делают они все это!
И еще одно, кажется мне, я понял за эти дни. Что не северная экзотика, не псевдоромантика привлекала меня всегда к Северу, а ощущение, что именно здесь, на Берегу, между человеком и природой еще не возникло непреодолимой преграды. Сам Берег всегда казался мне неким организмом, живущим особой, непостижимой для нас жизнью. Когда следом за рыбами, птицами, за зверями сюда пришел человек, он должен был подчиниться ее законам, поскольку она стала и его, человека, жизнью. Только потому и уступал Берег человеку, давая ему расширять пожни вдоль рек, пашни на буграх и в ложбинах, позволяя рубить лес, строить избы и села, соединяя их дорогами и тропами.
Берег обрастал человеком, как зверь шерстью, и оба жили в ладу, потому что человек по-своему заботился о Береге, стараясь, чтобы тот никогда и ничем не оскудевал.
А потом наступило безумие и разрушение.
Прошедшие годы я был исследователем причин этой болезни и летописцем попыток ее врачевания, веря, что излечение возможно. Берег был словно бы мостиком, переброшенным из прошлого в настоящее, и все это время я пытался рассмотреть с его террас контуры будущего. Каким оно станет? Смогут ли живущие здесь люди восстановить утраченную связь поколений с природой? Как ни странно, именно мощный рывок вперед западной цивилизации вернул человека к земле, дал ему досуг и средства заинтересоваться окружающим миром не для извлечения сиюминутного дохода, а для восстановления гармонии в развитии общества и личности, ощутившей себя, наконец, частью биосферы. Может быть, когда-нибудь и мы, вырвавшись из тисков невежества, нищеты, развала, инфляции, сможем вступить на такой же путь созидания, как наши далеко вперед ушедшие современники?