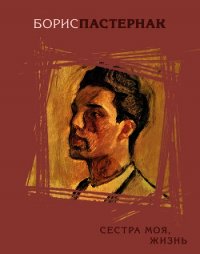Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .TXT) 📗
И вот провожаю ее большие глаза в землю.
Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг – рука на рукав – как лапа. Вы. – Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было больно за И.Г, и этого я ему не писала.) – «Я прочла Ваши стихи про голод…» – «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете – бывает так: над головой – сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»
Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь:
– Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.
Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, – ах, главное я и забыла! – «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? – Маяковскому».
Это была большая радость: дар всей чужести, побежденные пространства (времена?).
Я – правда – просияла внутри.
И гроб: белый, без венков. И – уже вблизи – успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.
И Вы… «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники…»
Теперь самое главное, стоим у могилы. Руки? на рукаве уже нет. Чувствую – как всегда в первую секундочку после расставания – плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.
Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>. – Ее последний земной воздух. – И – толчком: чувство прерванности, не додумываю, ибо занята Т.Ф. – допроводить ее!
И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновение.
Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц – день в день – я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом – наверное, не застану и т. д.
Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.
Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами», – тоже в прерванности.
Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.
То, что мне говорил Эренбург – ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.
Бег по кругу, но круг – с мир (вселенную!). И Вы – в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.
Всё только намечено – остриями! – и, не дав опомниться – дальше. Поэзия умыслов – согласны?
Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.
Скоро выйдет моя книга «Ремесло», – стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня – просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».
Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь.
Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона.
Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) – едете? Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) – безымянность – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.
Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас.
Мой адрес: Berlin – Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9. Pension «Trautenau-Haus».
Письмо 3
Berlin W. 15, Fasanenstr. 41. Bei v. Versen, 12 ноября 1922 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина Ивановна!
Насколько чистым наслажденьем было для меня написать тогда Вам из Москвы о Вас одной по собственному побужденью, настолько угнетала и беспокоила меня мысль об ответе, к которому Вы меня обязали присылкой Разлуки, «Словами на сон», письмом и Вашей обо мне статьею. Угнетала она меня тем, что, хорошо зная за собой полную мою неспособность быть или только воображать себя человеком всегда и во всякое время, я справедливо боялся, что долго еще моя благодарность, родясь в неблагодарную для меня пору, останется моей тайной и дойдет до Вас с таким запозданьем, что ничего уже Вам не скажет и не даст. Источники моей признательности Вам разнообразны, и сразу же обсужденье их мне хотелось бы начать со «Слов на сон». Однако прежде коснусь вышеназванной своей неспособности: быть может начало письма показалось Вам темным. Я знаю, Вы с не меньшей страстью, чем я, любите – скажем для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею. Я больше всего на свете (и может быть это единственная моя любовь) люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье естественно принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвиженье это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться. Вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту. Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представлять себе устье именно в этом изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней, сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет на вольной воле, и, следовательно, какова ее сущность и сейчас. Как ни мало сказано этим уподобленьем, и в нем уже несколько перехвачено через край. Чтобы обойти всякий пересол, скажу точно. Мне свойственно, по особенной моей односторонности, отождествлять с жизнью тот нетерпеливый, как потребность в наслажденья, огонек, который начинает блуждать в ее глазах, когда она задумывается о бессмертии, когда ей начинает казаться, что она любит его, когда она в этом убеждается, когда, забыв про все другое, она бросается к нему. Волнующе связная наглядность жизни или, что то же, красота, есть не что иное, как именно этот выбор, с отчаяньем и отвагой произведенный ей; когда ей ничего лучшего как стать бессмертной не остается, и не изменясь в других отношеньях, т. е. не став умнее и справедливей, она до неузнаваемости преображается единственно лишь тем, что теперь навсегда на нее падает зарево вечной наклонной плоскости, т. е. знаменье того именно духа, который когда-то заставлял ее течь и катиться, и сделал неуловимой, и поставил эти слова в кавычки, почти приравняв «наклонную плоскость» к красоте. Сколько раз принимались Вы грызть ногти, в Вашей статье, и совершенно неосновательно. А сколько у меня сейчас оснований повторить Ваше движенье! Всего больше хотелось бы мне хотя отдаленно описать Вам то чувствованье, без которого вход в искусство в моих глазах немыслим, – и которое охарактеризовать, по-видимому, невозможно. Как часты у меня поводы к полному, отчаянному и решительному бездействию – при таком взгляде на жизнь в ее отношеньи к художнику – судите сами. Грустно быть призванным писать лишь под таким-то и таким-то видом. Но что мешает встречаться с друзьями и писать к ним в такие нерабочие или «ненаклонные» полосы? Мне думается, однако, что письма пишутся людьми живыми. Мой же взгляд на жизнь так узок, что в эти периоды мне кажется, будто я не живу. Я не знаю, на что похожи эти растянувшиеся медитации. Если их внезапно оборвать, они сойдут за вступленье. Так и поступлю.
У «Разлуки» те же достоинства, что и у «Верст». Та же многоохватывающая порывистость, т. е. счастливая содержательность, давшаяся торпеда без тормозов. Книга в руках человека чувствующего не ждет посещенья знатоков, ее берешь, отправляясь к друзьям в Пушкино, как свою собственную, кровно ею гордясь и ей радуясь.
Совершенно же особенное спасибо Вам за «Слова». У меня было ощущенье (и оно не прошло), что во многом, вплоть до самого звучанья, «Слова на сон» до крайности близки – и намеренно – миру «Сестры». Не смейтесь надо мной и простите, если это не так. Если же я не ошибся, дайте объясню Вам, почему так особенно я Вам за них благодарен. Они мне страшно нравятся, и в минуты, когда Калигуле кажется что у него голова стеклянная, видя в «Словах» прекрасную, чудную, красящую все, на что она ни обратится, бессонную, удивительную, удивительную голову, он перестает ощупывать свою собственную и либо окончательно успокаивается либо же, в худшем случае, черпает неполное спокойствие в мыслях о пользе стекла. Надо ли объяснять Вам, что «Слова» – поддержка в минуты сомненья в себе, – на что я – мастер вне соревнованья, – надо ли, после пониманья, подчас загадочного, которое показали Вы некоторыми сторонами своей статьи?