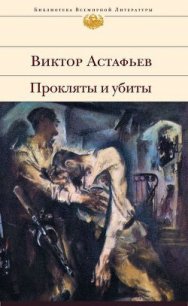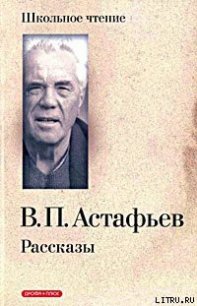Весёлый солдат - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн полностью TXT) 📗
Тетя Люба обвела нас победительным взглядом: мол, во как мы можем! Впрочем, в глуби тети Любиного взгляда угадывалась робкая озадаченность и песья прибитость. Она суетилась, забивала внутреннее замешательство излишней болтовней и заботливостью. А во мне поднималась пока еще неторопливая, но упрямая волна негодования, и сказал я себе: «Ну уж хера! Салфет на себя я натягивать не стану!» Супруга — чутлива, по морде моей или еще по чему угадав революционный мой порыв, нажала под столом на ногу, не то ободряя, не то успокаивая. Когда хозяин взял за горлышко графинчик, спросил взглядом, чего мне — ее, злодейку, или красненького из бутылки с длинным горлышком, я с вызовом заявил, что солдаты, которые сражались с врагом, привычны пить только водку и только стаканами.
— Да уж, да уж! — заклохтала тетя Люба, смягчая обстановку. — Уж солдаты… уж оне, упаси Бог, как ее, злодейку, любят!.. Но вам жизнь начинать. Ты уж не злоупотребляй!..
Супруга опять давнула своей ногой мою ногу. Хозяин сделал вид, что не понял моего намека насчет сражавшихся солдат, сам он с сорок первого года и ровно по сорок пятый отсиделся в плену у какого-то богатого немецкого иль австрийского бауэра, научился там манерам, обращению с ножами да с вилками, к столу выходил при параде, замучил тетю Любу придирками насчет ведения хозяйства, кухни и в частности относительно еды; обед и в особенности ужин — целое парадное представление в жизни культурных европейцев: при полном свете, в зале, свежая скатерть на столе, дорогие приборы.
А где что взять? Конечно, Василий Деомидович приехал при имуществе, не то что мы. Но этого трофейного барахла, всяких столовых и туалетных принадлежностей, навалом на базаре, идут они за бесценок. С какой стороны обласкать, обнежить господина? Ведь он там с немочками и с француженками такую школу прошел, такому обучился, что ей, простой подмосковной бабе, науку эту не одолеть. Она уж и карточки неприличные напокупала, глядя на них, действовать пробовала, да где там? Не те годы, не та стать…
«Да-а, не член, не табакерка, не граммофон, не херакерка, а бутыльброд с горохом!» — любил повторять наш радист, родом из Каслей или Кунгура, ковыряясь в рации, не в силах ее, вечно капризничающую, настроить, все хрипела она да улюлюкала и ничего не передавала.
И ведь, судя по морде, хозяин сам сдался в плен, никто его туда не брал, не хватал, сам устроился там и с войны ехал как пан, во всяком разе лучше, чем мы с супругой. А теперь вот вел беседы на тему, как праведно, чисто, обиходно, главное, без скандалов, поножовщины, воровства и свинства живут европейские народы, понимай — германские, как они хотя и жестоко порой обращались с пленными, а иначе нельзя, навыкли мы при Советах лодырничать, у немца ж не забалуешься, они, немцы, и детей воспитывают правильно — лупят их беспощадно и потому имеют послушание, не то что у нас лоботрясы никого не слушают. А на какой высоте у них искусство, особенно прикладное! Кладбища не кладбища, музеи-выставки под названием «Зодчество».
— А мы им тут кольев осиновых да березовых навтыкали, с касками на торце — вместо произведений искусства, — начал кипеть и заводиться я, — чтоб не отдалялись больше от родного дома в поисках жизненного пространства…
Жена опять давнула мою ногу и к хозяину с вопросом насчет природы, похожа ли на нашу.
— И похожа, и не похожа, — промокая губы салфеткой, отозвался хозяин. — Деревья как будто те же, но все подстрижены, все ровненько, аккуратненько…
Хватанув, уже самостоятельно, без приглашения, высокий стакашек водки, я хотел было напрямки спросить, как жопу европейцы подтирают. Не сеном? Сеном так хорошо, мягко, запашисто, и целый день, иногда и неделю из заднего прохода трава растет. Косить можно. Бедненькая тетя Люба позвала меня нести сковородку с жареной картошкой и на кухне приникла к моему уху, задышала в него:
— Миленький мой мальчик, герой ты наш фронтовик, наплюй на него, прошу тебя. Он же меня съест… загрызет… Я все понимаю, все-все! Изменщик он родине и народу, изверг и подлец, да ведь мужик мой, куда денешься?.. Пойми ты, мне-то каково на старости лет? Я из честной трудовой семьи… Будь молодые годы да…
Жена моя бдила, не давала мне больше выпивать, да и увела меня поскорее «к тете», где я заявил, что и дня больше не останусь под крышей этого разожравшегося на фашистских хлебах борова.
— Все, все! Все, мой хороший! Навестим вот тетю утром завтра в больнице — и за билетами, за билетами: у меня же литерные талоны. Мы же с тобой дальше поедем в купе. В купе, в купе, голубчик. В купе знаешь как хорошо, удобно, спокойно?! Ездил когда-нибудь в купе? Не ездил, не успел, а то бы поездил, ты ж железнодорожник. Я тоже не ездила, но знаю, что купе бывает на четверых…
— Это и я знаю! — непреклонно заявил я. — Ты кого надуть пытаешься? Кому голову морочишь?
— Ну и что, что на четверых? — частила супруга. — Может, остальные двое опоздают… Мы ж с тобой так вдвоем еще и не были, — прижалась она ко мне… — Посидеть можно, поговорить, даже, если охота, полежать… — вздохнула она. — А этот… Он мне еще больше противен, чем тебе, но я же держусь. Можно же немного потерпеть…
— Ты не была на Днепровском плацдарме!.. Ты не была на Корсуне… Ты не видала!..
— Не была. Не была… Я и войну видела издалека и ничего такого не испытала. Но тоже ведь досталось. Бомбежки… пожары… ужас… Не мытьем, так катаньем война свое взяла у всех…
— Так уж и у всех?!
— Ну, не у всех, ну, оговорилась. Хотя почти у всех… А тетя-то. Ха-ха! Ну, она какой человек. Велела привезти в больницу ее швейную машинку.
— Зачем?
— А чинит больничное белье. Нога в гипсе подвешена, она машинку на живот себе — и пошел строчить!.. Она у нас очень, очень хорошая. Ты ее обязательно полюбишь! Обязательно!
— А она меня? — спросил я, мягчея и привлекая к себе свою заботливую супругу, всегда и всем пытающуюся угодить, все неудобства и уродства на земле исправить, всем обездоленным соломку подстелить, чтоб мягко было, удобно, если возможно, чтоб никто ни на кого не сердился, никто никого не обижал.
— Ну кто же такого грубияна и замечательного дурня не полюбит? — рассмеялась она, целуя меня. — Такое невозможно. — И сделала тонкий намек: сейчас, мол, разденется, сейчас-сейчас, минуточку еще терпения, всего одну минуточку…
Но тут в дверь деликатно постучала тетя Люба, спросила, можно ли к нам. Присев на кровать, стала плакать и жаловаться на Василия Деомидовича, который успел уж поинтересоваться, долго ли мы тут задержимся. Опять отчитал, что не берем с тети вашей плату. Ведь знает, хорошо знает, что уж столько лет ломит тетка твоя по хозяйству, весь дом, все дела на ней, сама хозяйка лишь торгует на рынке, копейку наживает. И еще плата какая-то? Фактически же тетя тут и хозяйка, и прислуга, и швец, и жнец…
— Ну, такой злодей навязался, такой паразит явился — сил нет, всю меня, бедную, уж измучил… Шкуру-то собачью под навесом видели? Это он Бобку, Бобочку моего, бедного, задавил. Лает, спать не дает. Своими ру-учищами, фашист! Фашист, и нет ему пощады.
Но пощады не будет как раз ей, тете Любе: выжив с квартиры нашу тетю, Василий Деомидович вплотную займется тетей Любой, и несчастную женщину хватит удар, она належится в грязной постели, только подруга, наша тетя, будет ее навещать, обирать от гнуса и грязи. Хозяин еще при живой хозяйке приведет в дом молодую бабенку и станет тешиться с ней на глазах у законной жены. Живи в другом месте, эти прелюбодеи, может, и прикончили бы тетю, но тут кругом соборы, кресты, попы и богомольцы. Бога боязно. Вдруг увидит?
— Он и до войны не больно покладист был, нудный, прижимистый, нелюдимый, да все же терпимый, а после плена просто невозможным сделался! Иногда забудется и брякнет: «А вот у нас, в Германии…» О Господи, Господи! Что только и будет? Что только и будет?..
Когда тетя Люба на цыпочках удалилась на кухню и выключила свет в зале, нам уж ничего-ничего не хотелось, даже разговаривать не было охоты.