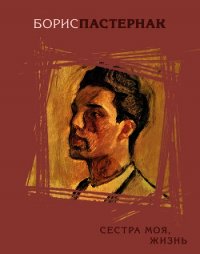Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Пастернак Борис (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .TXT) 📗
Буду возить ее с собой всю жизнь.
Письмо 5
<январь-февраль 1923 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина Ивановна!
Я давно хотел и должен был поблагодарить Вас за «Царь Девицу». Однако, при Вашей исключительной подлинности, – мне с Вами переписываться не легче, чем с самим собой. Всего охотнее я бы оставил эти слова, как достаточно, вероятно, понятные Вам, безо всякого объясненья. Если же это потребуется, все последующее их объяснит.
Четыре месяца я тут проболтался, больше не могу. Как я рад за Вас, что по причинам, быть может, горьким и стеснительным Вы вынуждены жить не в Берлине.
Чтенье Вашей поэмы было истинным счастьем для меня. С наибольшей легкостью из театрального склада в Кузнецком переулке (помните? – не двор, – впадающая площадка, по всем окнам вывески) – отпускаются напрокат опашни, охабни, кокошники и телогрейки. Вот, наверное, отчего так дурна всякая Билибинщина, а также и артельная кустарщина арбатского (т. е. просвещенно-городского) происхождения. Дурна она, вероятно, своей относительностью. Признаки стили отобраны по сравненью с каким-нибудь другим, путем вычитанья. Эта отрасль говорит о рынке, о вывозе. На этой мякине проводится иностранец, англичанин Стэд. Вещи эти словно созданы на то, чтоб на них глядели вскользь, мельком, вполглаза. Они – художественно бессодержательны.
Берлинская акционерная болтальня на паях затруднила мне сношенья с собою до невозможности. Ваша книжка у меня под рукой, читал я ее дважды, но делом большой трудности, чем-то вроде путешествия о четырех визах представляется мне простой переход от слов к делу, от общего описанья ее достоинств к разметке ее карандашом. Я ее буду читать не раз еще и раз как-нибудь сделаю это. Тогда из этой равномерно-прекрасной книги я выделю те, почти без остатка ее и образующие части, которые особенно изумительны по своей безукоризненности, прозрачности и чистоте. Я обведу рамкою те страницы, по которым целым полотнищем, без складок, падают чистейшие, бесстильнейшие и только себе равные песни, редкие, редкостные, завиднейшие. На других я отмечу, где начало и где конец тех штук и отрезов, на которых так облагороженно-наглядно разыгрываются: движенья Царь Девицы, прощающейся со своими, движенья взбегающих по лесенкам, шаги спускающихся, движенья моря, движенья ветра, движенья постепенно обнажающейся, не в пору зевнувшей, движенья сидящих на корме, движенья принятых на борт. Движенья радости и движенья печали, хотел еще прибавить я и вспомнил, – про изумительные песни эти я уже сказал. Дух содержанья: ждалось бы соединенье умеренной <подчеркнуто дважды> лирики со сказочностью (образностью <подчеркнуто дважды>), освобожденной от меры. Совсем не то. Редкое и неожиданное сочетанье совершенно безмерного, ну совершенно, совершенно безмерного лиризма с беглым, подробно-опрятным, не копостким и крайне оформленным реализмом. А стиль? Подзоры-то и кровельки, балясины и коньки? Что о них-то?
Вот в том-то и состоит главная прелесть поэмы, что она глубоко первообразна, а не производна, что поверхностной вязи на ней нет, что на нее не ловится иностранец, что беглым и лишь естественно завивающимся говорком в ней излагаются <подчеркнуто трижды> движенья и состоянья, картины и чувствованья, сплошь языком растворенные, языком прирожденно складным, промывным, текучим, не только не думающим о резком орнаменте, но и вообще не знающим отдыха, неустанно-содержательным. Спасибо за доставленное наслажденье. Сейчас его не с чем сравнить. О Билибинщине говорил (неужели не догадались?) с целью. Ее мыслимость, ее существование рядом, ее соседство, – все это превращает вольные достоинства Вашей сказки в едва оценимые заслуги.
Это письмо лежит у меня более месяца. Отчего же я его не докончил и не отправил? Сейчас перечел его и не вижу тому причины. Но я помню ее. Вероятно, в заключенье мне хотелось, как говорится, вывернуть перед Вами свою душу, а это, по счастью, никогда не удается. Ведь и самая потребность в таких излияньях есть свидетельство слабости, болезненности, волевого изъяна. И замечательно, эта же болезненность и слабость парализуют свое выраженье. Хорошо это устроено. А то что бы получилось? Тяжело мне, ах как тяжело. И ведь бо?льшая часть моей жизни прошла так, и кажется, – нет, зачем же так, лучше прямо сказать: – и вижу, так пройдет вся остальная. Но опять я вступаю на эту круговую дорожку. Не к чему. Посылаю Вам книжку, называется она «четвертой книгой стихов» (какая чушь!), не люблю я ее. Этой книжки не люблю я за то, что первою своей половиной она представляет завершенье «Сестры», если позволительно так называть разрыв с нею. В остальном же она скучна и второразрядна. Неужели это огорчит Вас больше, нежели меня самого?
Письмо 6a
<ок. 10 февраля 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку
Я сейчас в первый раз в жизни понимаю, что? такое поэт. Я видала людей, которые прекрасно писали стихи, писали прекрасные стихи. А потом жили, вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки: не только жили: нажив<али>. И достаточно нажив<шись>, позволяли себе стих. – Честное слово! – И они еще были хуже других, ибо зная что? им стихи сто?ют (месяцы и месяцы воздержания! Месяцы и месяцы жильничества! – Не-бы-ти-я), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопрекл<онения>, памятников за?живо. И у меня никогда не было соблазна считать их правыми, я галантно кадила – и отходила. Я ведь без конца поэтов знала! И больше всего любила, когда им просто хотелось есть или просто болел зуб: это человечески сближало. Я была нянькой при поэтах, – совсем не поэтом! и не Музой! – молодой (иногда трагической!) нянькой. – Вот. – С поэтами я всегда забывала, что я – поэт.
Но я, Пастернак, устала нянчиться. Из моих выкормышей никогда ничего не получ<алось>, кроме строчек. Вы же знаете, как этого мало.
Вы – Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт. т. е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю – Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу – польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником. Читайте это так же отрешенно, как я пишу: дело не в Вас и не во мне, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедуются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас, но Вы настолько велики, что это знаете.
Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной станции. Я приходила рано, в начале темноты, когда фонари загорались. (Повороты рельс.) Ходила взад и вперед по темной платформе – далёко! И было одно место, фонарный столб – без света – это было место встречи, я просто вызывала сюда Вас, и долгие бо?к о бок беседы – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ. (Единственное место в России, где я мыслю Гёте.)
Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни необходимы, как тот фонарный шест. / Куда бы я ни думала, я Вас не миную. / Фонарь всюду будет со мной, встанет на всех моих дорогах. Я выколдую фонарь.
Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что Вы этого ничего не знаете, не смущалась и тем, что всё это без Вашего ведома <вариант: соизволения>. Я не волей своей вызывала Вас, если хочешь – можно и расхотеть, хотенье – вздор. Что-то во мне хотело. Я то <оборвано>
«На вокзал» и к Пастернаку было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите, никогда нигде вне этой асфальтовой дороги. Уходя со станции, я просто расставалась: зрело и трезво. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.