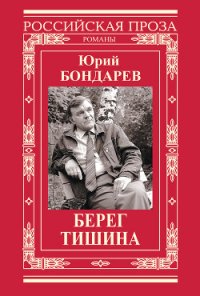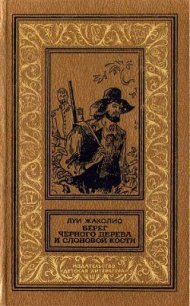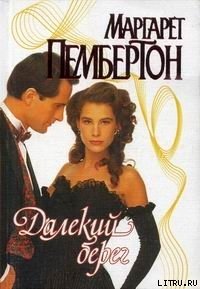Остановка в Чапоме - Никитин Андрей Леонидович (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
О Мурадяне Георги писал в "Рыбном Мурмане", писал мне в Москву, да и здесь рассказывал достаточно много, чтобы возбудить мой интерес и - что греха таить! - некоторую ревность из-за Стрелкова. А может быть, из-за себя самого? За все эти годы у меня сложилось твердое убеждение, что в таких старых поморских селах, как Чапома, где народ коренной, своеобычный, председатель колхоза обязательно должен быть местным человеком. И не только потому, что он должен знать людей. Людей может узнать и приезжий, понять их, подружиться с ними. Сторонний человек может полюбить этот край, узнать его, но никогда не будет так знать и так чувствовать, как знает его местный житель, выросший на этой земле, на этом берегу, на этих ветрах. Стрелкову не надо советоваться со стариками, прикидывая прогноз на ближайшие дни. Он знает, где, когда и что можно взять от земли и моря. Наконец, он, председатель, может показать любому колхознику, как и что надо делать - пасти ли оленей, выбирая наилучшую в эту пору тропу и пастбища, ловить ли семгу на речной или морской тоне, где надо знать все дедовские приметы и хитрости в постановке неводов, строить ли карбас или латать дору, провести ли косовицу так, чтобы и сено взять, и - это главное - людей не измучить. Или же, как то было однажды, сесть самому на трактор и вспахать за рекой поля, потому что единственный тракторист уехал в отпуск и, как на грех, там заболел... И все это Стрелков не только знает, как делать, но еще и умеет делать лучше другого колхозника, вот что важно! А такой сноровке ни в какой школе научиться нельзя, ее только сызмальства и до седых волос копить надо, утверждая собственными мозолями и потом...
И еще мне казалось всегда, что именно у председателя колхоза должны быть "корни". И духовные, и житейские, человеческие.
Сторонний человек - он и есть сторонний: сколько бы он ни старался, родные его места не здесь, и к ним его всегда тянуть будет. Он как приехал, так и уехал, если что не так пошло, по его ли вине, или с начальством не сработался, не говоря уже про болезни. С тем он приезжает, с тем и живет. А местному, да еще семейному из родного гнезда подняться - всю жизнь свою переломить. На такое всегда решиться трудно, это как от себя сбежать. За двадцать с лишним лет, что я приезжаю на Берег, я вижу, как мучительно, с какой болью уезжают отсюда люди, не бросая, не продавая свой дом, оставляя его за собой; как возвращаются ежегодно летом в отпуска, присматриваются и приглядываются, куда поворачивает здешняя жизнь, чтобы при первой же возможности перебраться назад. Ну, а уж если не получается, то по выходе на пенсию приезжают на Берег с первым рейсовым самолетом, едва только подсохнет взлетная площадка на берегу моря или среди леса. Когда такой местный уроженец становится председателем, то и дело колхозное становится для него кровным, личным делом. Как для Стрелкова.
Поэтому я и уговаривал Гитермана и Каргина, приводил им резоны, почему надо беречь чапомского председателя, и советовал искать таких же для других колхозов. Обычно мне возражали: а Тимченко что, местный? А Коваленко? А Подскочий? Приходилось объяснять, почему ситуация несравнимая, почему нельзя равнять колхозы Мурманского и Терского берега. В Териберке, например, ни одного коренного жителя нет, самый древний старожил приехал после войны на пустое место, а Тимченко для Минькино вполне местный - на противоположном берегу залива вырос. И если говорить о "Северной звезде" или о колхозе имени XXI съезда в Териберке, то это не село, не деревня в своем настоящем смысле, а всего только производственный коллектив, как любой госхоз, где люди кроме как работой ничем не связаны.
Терский же берег с его еще живыми селами - вековечный, коренной, поморский. Там на кладбищах, под северными ветрами, предки всех живущих лежат, и туда они сами хотят лечь, рядом с ними. Да о чем говорить? Каждая семья на Берегу, в каком бы селе ни жила, со всеми без исключения селами кровным родством повязана. Кажется, куда уже больше и теснее связь! А ведь не случайно здесь что ни село - то норов, то характер, то свой говор; в каждом - свои привычки, свои обычаи, своя, наконец, жизнь и свой привычный навык в хозяйственных делах. Можно ли всех под одну гребенку стричь, с одними мерками подходить? А пока разберется со всем этим сторонний человек, ему уезжать надо, потому что вконец отношения со всеми перепортил, никакого дела не сделать.
Раньше Георги соглашался с моими доводами. Слишком ярка, слишком впечатляюща была картина "председательской чехарды" в Чаваньге, куда снова и снова вез сторонних людей Егоров. Или сам человек оказывался никуда не годным, приходилось его снимать, или же живой организм коллектива отторгал его как инородное тело. Теперь, с появлением в Чапоме Мурадяна, он вроде бы уверовал в правоту противной точки зрения.
Судя по статье Георги, напечатанной в "Рыбном Мурмане", в молодом армянине было что-то необычное, что заставляло к нему приглядываться и прислушиваться. Уж очень колоритной и броской оказывалась его темпераментная фигура на фоне спокойного и монотонного северного пейзажа! У него было все то, чем не обладали бывшие председатели колхозов на Терском берегу, в том числе и Стрелков: энергия, воля, подвижность, южная деловая хватка, опыт руководящей работы в промышленности, широкий кругозор, высшее образование, молодость, когда кажется, что все по плечу, обширные деловые и дружеские связи, а главное - предшествующее восхождение по служебной лестнице, которое сообщало силу и подогревало его честолюбие. Поразмыслив, я понял, что в активе Мурадяна было еще одно, может быть, самое важное качество: он принадлежал к совершенно иному поколению, привыкшему мыслить и жить глобально. Поэтому все, что он делал и собирался делать, было не случайным, не применением к уже сложившимся обстоятельствам, а задуманным и продуманным актом.
Появление Мурадяна на Терском берегу означало, что на смену нам уже пришло новое поколение - со своими мерками, своими целями, вероятно, со своими идеалами. То самое поколение, к которому принадлежит и Георги, вот почему он сразу разглядел Мурадяна и заинтересовался им.
Мысль эта заслуживала внимания. Она могла стать своего рода ключом ко многому, наблюдаемому мною в последние годы на Терском берегу, да и не только там. Почему я инстинктивно боялся прихода на Берег чужих людей? Не потому ли, что, вжившись за два десятилетия в психологию поморов, стал отождествлять себя с ними? Разница была лишь в том, что прочувствованное я мог проанализировать и выразить в словах - все то, что находилось у них в подсознании и не шло дальше ощущений какой-то грядущей катастрофы, которая приведет к гибели их привычный мир. Поразительное эсхатологическое чувство выражалось ими фразой, которая для стороннего человека была лишена смысла: "Вот мы на пенсию уйдем, и ничего больше не будет!" Поначалу я считал, что за ней стоит всего лишь разлад между поколениями. Пожилые люди, привыкшие к тяжелому каждодневному труду на берегу, в море, на реке, в лесу, на покосе, на полях и на скотном дворе, выражали свой упрек молодым, безделье которых, казалось им, разрушало все то, что было нажито чредой поколений. Основания для этого были, и основания серьезные. Действительно, все приходило в ветхость, и не только на Севере. Рушились дома в деревнях, деревни сносили и свозили, "укрупняли", что приводило просто к уничтожению малых и средних деревень, к зарастанию полей и лугов, ко всем тем "негативным явлениям в деревне", как деликатно именовали эти процессы в печати еще несколько лет назад. Больше того, я мог видеть искусственное ускорение этих процессов, как если бы кто-то задумал согнать с лица земли человека, живущего от своих на ней трудов. Деревню рассматривали не как определенный образ жизни, а лишь как малопродуктивную и "устаревшую" в эпоху НТР "фабрику продуктов". В деревне жили "производители", "народ", "винтики и колесики" гигантского механизма, который можно было перемещать с места на место, собирать и разбирать, принимая во внимание лишь как некую единицу измерения.