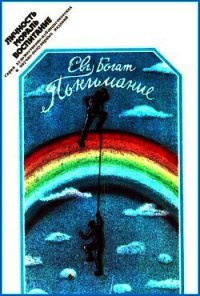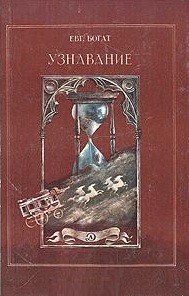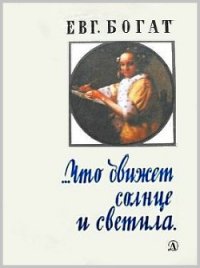Урок - Богат Евгений Михайлович (читать книги без сокращений txt) 📗
Ужинать начали в тяжелом молчании, — видимо, никому не хотелось стать объектом изучения «недреманного ока науки». Тексты умирали не родившись. Говорила за столом лишь владеющая пятью языками. Она рассказала про московский Театр на Таганке («Гамлет, играющий на гитаре, — это гениально!»), о последнем фильме Феллини, который видела в Риме ее лучшая подруга («„Сатирикон“ по роману Петрония, с ума можно сойти…»), и о том, что один некогда блистательный художник сегодня, увы, выдохся. Ни одно из этих сообщений за столом оживления не вызвало. И ей не оставалось ничего иного, как говорить дальше, говорить не умолкая. Поскольку характер ее был психологу-лингвисту известен, вероятно, достаточно хорошо, он меланхолично жевал телятину: старик-юноша явно томился без новых текстов. И тут она «вышла на тему», заинтересовавшую нас всех; в ее речи засверкала подлинность, живым, печальным и насмешливым стал голос. И нам становилось все труднее сохранять молчание. Хозяйка повела рассказ об иконах. Она начала его издалека — с элегического повествования о разрушающихся церквах и одиноких старушках в дряхлевших избах на Севере… На обильный, ломящийся стол легла на миг тень печали и тут же убралась восвояси.
— Однажды, — рассказывала Владеющая, — я разговорилась с Володей. Это сантехник из нашего ЖЭКа. Каталось бы, что ему Гекуба! Ну вот… У нас засорилось, пардон, одно устройство, и он его налаживал целый день и рассказывал мне о том, что его товарищи странствовали по Северу и возвращаются сейчас с диковинными вещами. «И с иконами, с иконами?!» — стала я тянуть из него. «Да», — отвечает. «Старыми?» — «До шестнадцатого века. А бывает…» — «Что бывает, — трясу его, — что?!» А он: «Феофана Грека хочешь? Миниатюру?» Я шалею: «Неси!» Побежал, вернулся: «Нет Грека — академику одному обещано было, он заезжал в мое отсутствие». Я чувствую, у меня сейчас будет инфаркт. «Ну, не Феофана, молю, ну, хоть что-нибудь!» Опять побежал, вернулся с восемнадцатым веком. С серединой…
— А самовар он может достать? — выдавила из себя одна школьная наша подруга. — Северный, старинный?
— Может.
— А лапти вологодские? — оживился кто-то.
— И лапти может! — ликовала Владеющая. — Володя-сантехник личность фантастическая. Что лапти! Он недавно прялку раздобыл — любой музей лопнет от зависти. Два семейства из-за нее чуть не передрались, но потом, как люди интеллигентные, разошлись мирно: распилили надвое и жребий тянули — кому низ, кому верх.
— Те, кому выпал низ, сейчас разводятся, опять будут пилить… — с тонкой иронией заметил хозяин дома.
— А ты не пилил бы?! — быстро поставила его на место жена. — Ну конечно, — вернулась она к основной теме, — и самовар, и лапти — это вещи сопутствующие для Володи. Его коренное увлечение — иконы. Тут он бог. Но… — она понизила таинственно голос: — Есть человек и поважнее его. Сашка…
— Сашка?.. — выдохнули мы, как зачарованные.
— Да. По кличке Псих.
— Тот, — поморщился муж, — что ходит к нам по ночам?
— Сашка, — повествовала дальше жена, — собирает не через товарищей, он сам лазает по старым церквам, и после тишины соборов его угнетает шум города, потому и ходит ночами. Он ужасно нервный: когда достает икону, у него руки играют…
— А не кажется тебе, — подал наконец голос психолог-лингвист, — что Сашка с иконой сигматически то же самое, что Гамлет с гитарой? Шекспировский герой с расхожим символом наших дней и, извини меня, конокрад тоже с определенным…
— Зарабатывает он, — невежливо перебил его хозяин, — побольше, чем в минувшие века конокрады.
— Вечные типы с сегодняшними символами, — мудро вздохнул старик-юноша.
— Зарабатывает он, конечно, хорошо, — сердито согласилась жена, — но кто еще достанет вам икону школы Дионисия? Рублева и Черного? Псковскую, новгородскую, суздальскую? Византийскую? Кто, если не он?! Любые…
— …масти, — подсказал психолог-лингвист.
И тут она рассвирепела. От возбуждения лицо ее казалось покусанным пчелами.
— Это не твоя область — иконы. Их язык тебе не понятен.
— А что они вам говорят? — осмелел я.
— Они говорят мне, — торжественно возвысила она голос — я — та ценность, которая существует независимо от тебя, от твоего дома, от времени, в которое ты живешь, я родилась в веках и уйду в века. Я стала на миг стеною в твоем доме, чтобы напоминать тебе о вечности. Лови же этот отблеск чистого золота… — И она, растроганная, умолкла.
И тогда я первый раз за вечер рискнул выдать при «недреманном оке» развернутый текст.
— Что же дороже, — обратился я к Владеющей, — золото или храм, освящающий золото?
— Это не ваши слова! — почему-то обрадовалась она.
И посмотрела с надеждой на юношу-старика. Тот молчал торжественно, углубясь про себя в текст.
— Андрей Белый? — жадно, точно затевая игру, допытывалась хозяйка. — Мережковский? Поздний Ходасевич? Ранний Бурлюк? Евгений Евтушенко?..
— Нет, — ожил психолог-лингвист, — не Евтушенко… и не Вознесенский… и не Ахмадулина… Нечто более раннее.
— Разумеется, — согласился я с ним. — Это Библия.
Когда настала пора расходиться, я заметил, одеваясь, что ножки старинного столика в коридоре, на котором чернел телефон, почти в точности повторяют изгиб тела одной из жен-мироносиц, склонившихся над опустевшим гробом Спасителя.
— Стена! — повторил с тем же загадочным выражением хозяин, перехватив мой взгляд на иконы. Он вышел со мной на лестницу, растроганно посмотрел мне в лицо. — А помнишь, у Ростана… нет, у Аполлинера: «Ты должен подняться. Дорогу тебе указали…» Да, — заключил он мужественно, — надо жить.
На нижних ступеньках лестницы я обернулся — он все еще стоял, лысеющий мальчик, создавший себе иллюзию стены, куда более толстой, чем стены современных домов: ведь иконы когда-то висели действительно на стенах крепостных, защищавших надежно от мира.
Он улыбнулся мне в последний раз, ушел к себе. И тут же раздался выстрел… второй… и третий. Через несколько секунд я сообразил, что это не пистолет, а замки, это их убойная сила, делающая дом неприступным.
По дороге домой я искренне пожалел, что он не умер от любви. И подумал, что он и в самом деле мог бы умереть, но при одном непременном условии: если бы это было сегодня модно. Но, как сказал поэт, «уже написан Вертер…».
Понятие моды, несомненно, шире фасона туфель или стиля мебели, — модными могут быть увлечения мистикой или животным магнетизмом, поклонение женщине и самоубийства от несчастной любви. Моды меняются, трагикомически или даже пародийно отражая рождение и уход подлинных ценностей. Моды меняются, неизменными остаются суть модников, мотивы их действий.
В написанном две тысячи лет назад «Сатириконе» римский писатель Петроний изобразил разбогатевшего вольноотпущенника Тримальхиона, который книг не читал, но тем не менее имел у себя в доме две библиотеки. Этот вольноотпущенник закатывал роскошные пиры, на которых, само собой разумеется, объедались и опивались до безобразия. Но хозяин не позволял гостям забывать о философии. В тот век модным было увлекаться идеями стоиков, рассуждать о морали Сенеки. И вот в разгар пира Тримальхион требует, чтобы в зал внесли… человеческий скелет. Не надо забывать, что жизнь, как учит Сенека, штука бренная. Мясо в доме Тримальхиона разрезали под музыку. Это было модно…
Тримальхион не умер — он появлялся в разные века под разными именами, усердно склоняясь к тому, что сообщало подобие социального или нравственного престижа, иллюзию значительности: к литературе, философии, религии, науке, точнее — к разговорам о них. И при этом играл в независимость, играл тем бесцеремоннее, чем глубже сидел в нем вчерашний раб.
Да, в то время, когда Тримальхион развязно культивировал его идеи, Сенека уже не пользовался расположением цезаря, но в поведении новоявленного «стоика» не было, разумеется, и тени социального бесстрашия. Вольноотпущенник хорошо понимал: к нему, как к Сенеке, император не пошлет центуриона с повелением убить себя. За что? За человеческий скелет? Разве что кто-нибудь высмеет (как и высмеял Петроний в «Сатириконе»). А большего он и не заслуживает, точнее — не хочет заслужить. Сама развязность, сама нарочитая пародийность его обращения к модным и в то же время неофициальным идеям заключала в себе нечто двойственное: позволяла играть в вольномыслие, не рискуя ничем существенным. Он тешил самолюбие шутовским вызовом. А высмеют — не страшно, даже хорошо: высмеяли — заметили, отвели определенную роль. Для актера же — все модники актеры! — нет большей беды, чем остаться без роли…