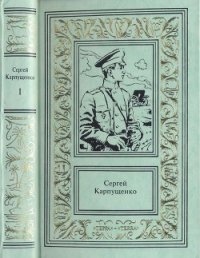Когда крепости не сдаются - Голубов Сергей Николаевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Щербачев ясно видел, какое огромное значение могла бы иметь удача задуманного им штурма именно теперь, когда признаки нового наступления австрийцев что ни день становились очевиднее. Главнокомандующий фронтом, вероятно, уже ломает голову: принимать ли бой на левом берегу Сана, имея за собой вражескую крепость, или отходить за Сан, сняв блокаду? По свойственной ему нерешительности он, конечно, склоняется к тому, чтобы не выдвигать вперед и не подставлять под удар тылы и фланги прикрывающих блокаду Перемышля армий. И вот в такой-то момент Щербачев возьмет крепость, сразу освободит для действий в поле пять дивизий и развяжет руки двум соседним армиям…
Главное — не опоздать. Щербачев изо всех сил спешил с составлением плана атаки. Всякий молодой офицер генерального штаба, выполнивший свою третью академическую тему, уже понимает, что такое подготовка и план военной операции и какое значение они имеют для ее осуществления. Как же было не знать этого Щербачеву? Он — очень образованный генерал: преклонялся перед Наполеоном, восхищался Фридрихом II и Морицом Саксонским, благоговел перед Клаузевицем, увлекался Бернгарди. Он был так по-европейски образован, что к русской школе военного искусства относился свысока и презрительно обзывал ее сторонников утопистами.
Днем третьего октября гарнизону Перемышля была предложена сдача. К вечеру получен отказ. А в ночь на четвертое уже был готов план. Генерал Щербачев проектировал одновременный штурм с юго-востока, севера и юга. Тяжелая артиллерия под руководством генерала Дельвига должна была содействовать атаке юго-восточного сектора. План был широк по замыслу и вместе с тем чрезвычайно детально разработан. Такие планы в академиях обычно оцениваются высшим баллом. Практическая подготовка атаки началась без промедления, этой же ночью. Артиллерия выезжала на позиции; прислуга рубила хвойные ветви и маскировала ими орудия. Белая голова Дельвига мелькала то здесь, то там. Но от необыкновенной подвижности и распорядительности этого генерала число тяжелых орудий не увеличивалось и полевых гаубиц оставалось попрежнему мало. Масса артиллерии состояла из скорострельных пушек.
Всю ночь подходила пехота, размокшая под дождем, насквозь пропитавшаяся грязью, изможденная, и сразу вступала в боевую линию. Саперные и телеграфные роты, прожекторные команды распределялись по дивизиям. На каждую дивизию выдавали по три сотни лопат и по двести пятьдесят ножниц. Пехота подходила всю ночь и весь следующий день. Постепенно на главном участке атаки, на южном и северном участках подобралось семь с половиной пехотных дивизий и четыреста восемьдесят три орудия. Войска шли в тумане и топтались в слякоти, под холодным и пронзительным, ни на миг не стихавшим дождем. Дельвиг бесился: этот дождь поднимался стеной перед артиллерийским наблюдением. Чтобы стрелять, надо было высылать наблюдателей в пехотные цепи, а от командиров батальонов первой линии требовать указаний для батарей. Мало того, надо было соединять батальоны с батареями телефоном.
Рота Заусайлова попала в резерв сторожевого охранения и всю ночь просидела в густом кустарнике. К утру капитан позволил солдатам раскатать скатки, надеть шинели, и тогда они завалились спать. И Романюта тоже храпел вместе с другими. Бодрствовав один Заусайлов. Он сидел под деревом с папиросой в зубах и думал о счастливом выходе из трудного положения, который открыла перед ним война. Не только все служебные неприятности сразу исчезли, точно корова их языком слизнула, а еще и мерещится впереди батальон со штаб-офицерством. В предрассветных сумерках люди представлялись Заусайлову сгустками серого тумана. Однако телефониста, усердно тянувшего провод как раз к тому месту, где сидел капитан, он разглядел довольно хорошо. Телефонист работал на коленях, заткнув полы шинели за ремень, и при каждом движении все глубже угрязал в жиже. Заусайлов невольно следил за его действиями. «Старается, подлец!» — с удовольствием подумал он. В этот момент телефонист поднялся с колен. Он оказался высоким и худым, совсем еще молоденьким вольноопределяющимся инженерных войск.
Заусайлов сидел под деревом на свеженасыпанном земляном холмике. Другой, такой же точно, холмик поднимался с той стороны дерева, где находился телефонист. И этот второй холмик был могилой — две палочки крест-накрест, ельник и желтая листва под крестом. Вольноопределяющийся и капитана не видел и себя чувствовал невидимым. Раздумывая о чем-то, он долго стоял перед могилой с опущенной головой. Потом выпрямился и вздохнул:
— Эх! Прощай, товарищ!
Почему-то Заусайлову захотелось знать, какое у него лицо. Он встал. Лицо у вольноопределяющегося было бледное, с острыми черными усиками и такими же острыми и черными глазами.
— Наркевич, вы?
— Так точно. Здравия желаю, господин капитан!
Заусайлов еле перевел дух от злости. «Нанесла нелегкая… Сплетник, болтун, баба в капоте, — вертелось у него в голове, — ведь из-за него все… Я ж тебя… Я ж…» Капитан не отличался находчивостью. Но терялся он преимущественно перед начальством и перед теми, от кого зависел по службе. Наркевич к этим разрядам не относился. Заусайлова вдруг осенило. Он снял фуражку и, крестясь на солдатскую могилку, спросил:
— Кажись, нюни распустили, господин студент? За собственную шкурку беспокоитесь, так, что ли?
— Никак нет, ваше благородие, — пробормотал Наркевич, — не то совсем…
— А я вам говорю, молодой человек…
Романюта проснулся от громкого, до хрипоты злого командирского голоса.
— Зарубите, вольноопределяющийся, на носу, что трусом быть подло и грех большой. Перед богом — грех! А хуже труса один только сплетник быть может, да-с! Ну, теперь делайте ваше дело…
Часов в десять утра, перед самым началом движения, все еще злой Заусайлов сказал по телефону командиру ближайшей батареи:
— Об одном прошу: действуйте, капитан, без строгих правил вашей науки… Не надо!
— То есть, как это? — встревожился артиллерист.
— Только прямой наводкой. А то непременно в меня угодите…
Он повел свои цепи в атаку по голой лощине навстречу орудийному, пулеметному и ружейному огню, которым обливала его Седлиска. Вскоре цепи залегли. Через час Заусайлов их поднял. Однако у горевшей деревни Быхув его рота попала под перекрестный огонь и опять залегла. И так — до вечера… В сумерки солдаты Заусайлова окопались в восьмистах шагах от передовых укреплений Седлиски.
Дельвиг докладывал Щербачеву:
— Немыслимая грязь! Приходится в один зарядный ящик впрягать по десятку лошадей. Но в парковых бригадах лишних лошадей нет. И вот передовой запас не подает снарядов… подвоз срывается. Это — первое, ваше превосходительство.
— Гм!
— Второе — еще хуже. Наши данные о пробиваемости броневых установок…
— Ни к черту не годятся? Так. Что же из этого следует, Сергей Николаевич?
— Пока не поздно, надо прекратить атаку, ваше превосходительство!
Щербачев молчал. Выполняя планы своих операций, он всегда действовал с упорством и твердостью — бесповоротно. Потери для него не имели значения. «Где нужен успех, — говорил он, — там не думают о жертвах». И поступал соответственно. Дельвиг удивил его не тем, что заговорил о трудностях, которых нельзя было предвидеть, — дополнительные трудности преодолеваются дополнительными усилиями, — а совсем другим. Почему Дельвиг вдруг попятился? Не ведет ли этот хитрый старик двойной, тройной игры? Во что бы то ни стало требовалось разгадать скрытые причины его внезапной растерянности. А мысли о том, что никаких скрытых причин нет и вообще ничего нет, кроме того, о чем докладывал Дельвиг, — этой простой и естественной мысли Щербачев положительно не допускал. Он молчал, постукивая по столу жесткими и сухими пальцами, похожими на коленца бамбукового ствола. Адъютант, с усиками в унтер-офицерскую стрелку, доложил:
— Полковник Азанчеев из штаба фронта, ваше превосходительство!
— Прошу!
Щербачев встал. В кабинет вошел моложавый, бодрый, высокий, стройный, с едва заметной проседью в светлых волосах, офицер генерального штаба. Несмотря на грязные сапоги и сильно помятый китель, он сохранял со всей отчетливостью свой петербургско-гвардейский вид. Однако самой примечательной чертой его наружности, конечно, были глаза. Их стремительно быстрый, беспокойный взгляд был так неуловим, что легко могло показаться, будто никаких глаз и вовсе нет на холеном, красивом лице этого белобрысого Мефистофеля. Щербачев и Азанчеев были людьми одного круга. Несмотря на разницу лет, чинов и положений, их ранние воспоминания сходились в одном и том же месте — в казармах Преображенского полка на Миллионной улице. В этом фешенебельном полку они оба начали свою офицерскую службу. Потом оба закончили в числе первых академию генерального штаба. Хотя все это и расходилось во времени, но сближало их силой магнитного притяжения.