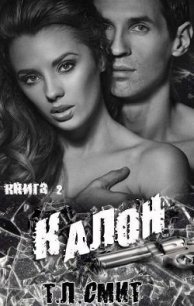Шутить и говорить я начала одновременно - Хмелевская Иоанна (читать хорошую книгу TXT) 📗
Снилось мне, что мы с возлюбленным гуляем в чудесном лесу, причём лес мне знакомый, летом я часто там гуляла. И вдруг откуда-то выскочили разбойники. И сразу же приняли ужасное решение, от которого зашлось сердце.
— Озеленим его! — мстительно вскричали они жуткими голосами.
Я смертельно испугалась, залилась слезами и бросилась наутёк. Разбойники тут же сбавили тон и успокаивающе принялись кричать мне вслед:
— Не тебя озеленим, его! Тебя не будем!
Как же, так я им и поверила! Нашли дурочку. Я сбежала от них и спряталась в укромном месте, наверное, не очень далеко, потому что из своего укрытия могла видеть все. Они и в самом деле озеленили парня. Озеленение заключалось в том, что они покрыли его с ног до головы толстым слоем прозрачной студенистой массы мерзкого грязно-зеленого цвета, отвратительно пахнущей. Глядя на это, я испытала такой ужас, что невозможно описать. Сделав своё грязное дело, разбойники скрылись, и мы остались вдвоём на изумительной красоты лесной дороге. Я опять принялась убегать, а озеленённый молодой человек гнался за мной, умоляя остаться с ним, невзирая ни на что. А я не могла переломить себя, зелёный студень вызывал во мне омерзение, к тому же от возлюбленного несло смрадом, как от черта. Из-за этого сна я не только окончательно и бесповоротно разлюбила сына директора школы, но у меня на всю жизнь осталось в сознании это глупое словечко «озеленить», в значении — покрасить в некрасивый зелёный цвет. А моя великая любовь кончилась, как ножом отрезало.
( По окончании лета, проведённого в Езёрках… )
По окончании лета, проведённого в Езёрках, я пошла в школу. В школу мне очень хотелось, но доставила она мне много неприятных минут, которые скрашивало лишь присутствие прекрасной учительницы. Я никак не могла понять, чему же мне учиться в первом классе. Читать я умела уже давно, а вся многочисленная родня по торжественным дням получала от меня поздравления, тщательно выписанные печатными каракулями. Видимо, мне тяжело досталось умение писать нормальными маленькими буковками. Очень хорошо помню ужасный день, когда я мучилась над тетрадью в косую линейку. Целую страницу нужно было исписать косыми палочками с закруглением вверху. Никак они у меня не получались. С трудом нацарапала я три линейки, и страница превратилась в нечто ужасное — только каракули и кляксы. Вся зарёванная, я отправилась спать.
В тот день мать ездила в Варшаву, вернулась поздно, служанка сообщила ей о моих переживаниях. Мать вошла в моё положение и решила помочь. Наутро я обнаружила в тетради страничку, целиком заполненную ровными, аккуратными палочками, и смертельно обиделась.
Сначала я устроила скандал дома, а потом ни за что не хотела показывать тетрадь учительнице. Показала все-таки, но заявила, что палочки изобразила моя мамуля, а не я. И все тут! Чувства, которые двигали мною тогда, я поняла, лишь став взрослой. Я не желала принимать ничего чужого, ни чужих заслуг, ни чужих ошибок. Все должно быть только моим собственным! Иначе получается либо обман, либо незаслуженная обида, а как первое, так и второе отвратительно.
Отношение ко лжи и всяческому обману утвердилось во мне с самого рождения, и всю жизнь я отличалась прямо-таки идиотской правдивостью, прямотой. Выросла я в убеждении, что ложь является проявлением трусости, а трусость — позорное явление. Лгать, в незначительной степени, я научилась только под воздействием нашего государственного строя, который сам базировался целиком на колоссальной лжи, и в нем не мог существовать человек, совершенно не умеющий лгать. В личном же плане я стояла на стороне правды, и эта склонность останется во мне, наверное, уже до гроба.
Ладно, вернёмся к школе. Не помню, в каком классе у меня возник конфликт с ксёндзом, в первом классе или во втором? Вероятнее всего, в первом.
Хотя нет, вряд ли. Не в первом. Наверняка позже, когда дети уже овладели навыками чтения, потому что умение читать требовалось для приготовления урока. Так вот, на уроке религии ксёндз, кажется, задал нам какое-то домашнее задание и на следующий день вызвал меня отвечать. С чистой совестью, готовая поклясться чем угодно, я ответила, что он ничего подобного нам не задавал. Ксёндз возмутился, обратился за поддержкой к классу, но у учеников не оказалось единого мнения по данному вопросу. Мне поставили двойку, я громко негодовала и домой вернулась в слезах. Встретив ксёндза на улице, мать высказала ему свои претензии, ксёндз же возмутился и заявил, что он твёрдо знает — урок задавал. Поскольку я утверждала обратное, мать приняла мою сторону.
— Ваша дочь лжёт! — холодно заявил ксёндз. Выпрямившись, будто её ударили, мать ответила голосом сухим как перец:
— Нет, проше ксёндза! Моя дочь никогда не лжёт! Потом я выучила проклятый урок, и проблема решилась сама собой, а дело, видимо, было в том, что я позволила себе на уроке религии роскошь — задумалась о своём и перестала слышать, что говорил ксёндз.
Первый класс я закончила, как всякий нормальный ребёнок, на одни пятёрки, после чего разразилась война.
( До самой смерти мне не забыть… )
До самой смерти мне не забыть свиста первых бомб. Мы уже знали, что это воздушный налёт, люди выбежали из домов и спрятались под деревьями. Мы с матерью тоже стояли под деревом, мать прижимала меня к себе, свист нарастал, мать шептала: «Бомба, бомба…» Я была уверена, вот-вот бомба свалится к нашим ногам, и помню дикий ужас, овладевший мною. Три бомбы взорвались вдали, мы видели и слышали разрывы.
Эти три первые бомбы были сброшены на Груец третьего сентября. Война началась ещё первого, но до нас пока не дошла, второго мы с нашей домработницей отправились в кино. Из этого ничего не вышло, завыли сирены воздушной тревоги, свет погасили, люди пережидали тревогу под деревьями парка. Сеанс отменили, мы вернулись домой.
И опять в связи с этим событием мне вспоминается ксёндз. Не везло мне с ксендзами. Уже под конец войны, на уроке ксёндз сурово спросил учеников, кто ходит в кино. Разумеется, каждому ребёнку было известно отношение поляков к тем, кто посещает открытые немцами кинотеатры. «Ходит в кино только г…» Развлекаться во время оккупации было непатриотично. В ответ на вопрос ксёндза я встала и гордо начала:
— Последний раз я была в кино…
Я хотела, чтобы все знали — в кино я была последний раз второго сентября 1939 года, но ксёндз не дал мне договорить.
— Садись! — гневно рявкнул он. — И слышать не желаю о таких вещах!
Наверное, он решил, что в кино я была, например, месяц назад. Я села, оскорблённая и беспредельно униженная, три дня меня трясло, а на ксёндза я обиделась навсегда.
Ксёндз ксёндзом, обида обидой, но сейчас мне придётся сделать сразу несколько отступлений от хронологического повествования, и никуда от этого не денешься. Я предупреждала, в моей «Автобиографии» лирических отступлений будет множество.
С раннего детства меня часто водили в театр, впоили культуру, можно сказать, с малолетства. И как-то, будучи уже взрослой, я поспорила с кем-то на пари, с кем — не помню, что в Большом театре до войны перед началом спектакля исполнялся полонез А-дур. [07]Спорить со мной обо всем, что касается музыки — дохлый номер, у меня совсем нет ни слуха, ни памяти на музыкальные произведения, не говоря уже о голосе, но если уж я на чем-то в этой области настаиваю, значит, дело верное, бетон-гранит. Так оно и оказалось, пари я выиграла.
Что же касается кино, когда, наконец, после войны я впервые после многолетнего перерыва оказалась в кинотеатре, движущиеся на экране картины произвели на меня потрясающее впечатление, волнение сдавило горло, я чуть не задохнулась от умиления. Не очень уверена, но кажется, шёл фильм «Секретарь райкома». Впрочем, какой именно фильм я смотрела — значения не имеет, фильм сам по себе стал символом окончания оккупации.
7
Полонез «ля бемоль мажор» Фридерика Шопена.
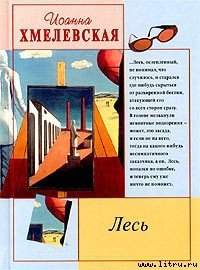
![Проза жизни [Обыкновенная жизнь] (Жизнь как жизнь) (Другой перевод) - Хмелевская Иоанна (читать книги бесплатно полностью .TXT) 📗](/uploads/posts/books/11202/11202.jpg)
![Версия про запас [Дело с двойным дном] - Хмелевская Иоанна (читать книги полностью TXT) 📗](/uploads/posts/books/11215/11215.jpg)