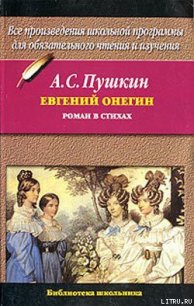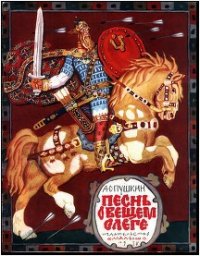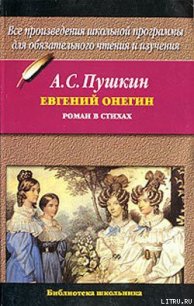«Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина - Ахматова Анна Андреевна (список книг TXT) 📗
Таким образом, выясняется, что по первоначальному замыслу Пушкина «два три романа» XXII строфы «Евгения Онегина» — это «Мельмот» Матюрена, «Ренэ» Шатобриана и «Адольф». [18] При следующей переработке этих стихов Пушкин заменил Сталь Байроном, а «два три романа» не названы.
В «Заметке» о предстоящем выходе перевода «Адольфа», сделанного Вяземским, Пушкин вторично сопоставляет имя Б. Констана с именем Байрона: «Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона». [19] Эту мысль Пушкина повторил и Вяземский: «Характер Адольфа верный отпечаток времени своего. Он прототип Чайльд Гарольда и многочисленных его потомков». [20] Сопоставление Адольфа с характерами героев Байрона имело для Пушкина очень важный принципиальный смысл.
Вяземский в посвящении Пушкину сделанного им перевода «Адольфа» писал: «Прими перевод нашего любимого романа» и «Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего». Хотя это посвящение, как выясняется из писем Вяземского к Плетневу, было написано в январе 1831 года, но это не значит, что беседы об «Адольфе» происходили в связи с переводом Вяземского. Вернее предположить, что именно эти беседы подали Вяземскому мысль заняться переводом романа Б. Констана.
Вяземский переводил «Адольфа» con amore, придавал чрезвычайно важное значение своему переводу и работал над такой сравнительно небольшой вещью очень долго. [21]
20 декабря 1829 года Баратынский благодарит Вяземского за присланную на просмотр рукопись перевода. [22] И только 12 января 1831 года Вяземский обратился к Плетневу с просьбой отдать в цензуру оставленный в Петербурге у Жуковского и Дельвига перевод «Адольфа», обещая прислать на днях посвящение («письмо к Пушкину») и предисловие («несколько слов от переводчика»). [23]
17 января 1831 года Вяземский послал Пушкину из Остафьева в Москву свое предисловие (а может быть, и посвящение) со следующей просьбой: «Сделай милость, прочитай и перечитай с бдительным и строжайшим вниманием посылаемое тебе (курсив мой. — А. А.) и укажи мне на все сомнительные места. Мне хочется, по крайней мере в предисловии, не поддать боков критике. Покажи после и Баратынскому, да возврати поскорее (…) Нужно отослать в Петербург к Плетневу, которому я уже писал о начатии печатания Адольфа» (XIV, 146).
Очевидно, Пушкин полагал необходимым внести некоторые поправки в предисловие Вяземского, потому что через три дня он ответил: «Оставь Адольфа у меня — на днях перешлю тебе нужные замечания». [24] Поэтому мы имеем право предположить редактуру, если не сотрудничество Пушкина, а самое предисловие рассматривать как итог бесед Пушкина и Вяземского об «Адольфе». Это тем вероятнее, что, как уже отмечалось, некоторые мысли, высказанные Вяземским в предисловии, — повторение заметки Пушкина об «Адольфе». [25]
В своем предисловии Вяземский говорит, что, переводя «Адольфа», он имел желание «познакомить» русских писателей с этим романом. [26] Конечно, Вяземский знал, что русские писатели могли прочесть роман Б. Констана в подлиннике, и вовсе не с романом Б. Констана хотел их познакомить, а показать на примере своего перевода, каким языком должен быть написан русский психологический роман.
Говоря о языке психологической прозы, мы имеем в виду тот язык, который Пушкин называл «метафизическим». [27]
Пушкин считал Вяземского способным содействовать развитию этого языка («У кн. Вяземского есть свой слог») и 1 сентября 1823 года советовал Вяземскому заняться прозой и «образовать русский метафизический язык». А еще 18 ноября 1822 года Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Я сижу теперь на прозаических переводах с французской прозы. Во-первых, есть тут и для себя упражнение полезное». [28] Очевидно, прозаические переводы уже тогда казались Вяземскому способом обогащения русского литературного языка и, в частности, создания русской прозы, еще не очень самостоятельной и мало разработанной. Известны жалобы Пушкина на отсутствие русской прозы и на отставание прозы от стихов. [29]
Посылая Баратынскому на просмотр свой перевод «Адольфа», Вяземский, очевидно, высказал свои соображения о трудности передать по-русски все оттенки «Адольфа», потому что Баратынский ответил ему следующее: «Чувствую, как трудно переводить светского Адольфа на язык, которым не говорят в свете, но надобно вспомнить, что им будут когда-нибудь говорить и что выражения, которые нам теперь кажутся изысканными, рано или поздно будут обыкновенными. Мне кажется, что не должно пугаться неупотребительных выражений. Со временем они будут приняты и войдут в ежедневный язык. Вспомним, что те из них, которые говорят по-русски, говорят языком Пушкина, Жуковского и вашим, языком поэтов, из чего следует, что не публика нас учит, а нам учить публику». [30]
За год до того, как было написано предисловие Вяземского, Пушкин в заметке о предстоящем выходе «Адольфа» писал: «Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы» (курсив мой — А. А.). Здесь Пушкин, уже знавший перевод Вяземского или, во всяком случае, методы его перевода, [31] высказывал ту же мысль, что и Вяземский в предисловии, а Баратынский в приведенных письмах. Говоря о метафизическом языке «Адольфа», Пушкин имеет в виду создание языка, раскрывающего душевную жизнь человека. Самое выражение «метафизический язык» Пушкин, вероятно, заимствовал у мадам де Сталь. Оно встречается в «Коринне», в главе «De la litterature italienne», без сомнения внимательно прочитанной Пушкиным: «les sentiments reflechis exigent des expressions plus metaphysiques» (рассудочное мышление требует более метафизического выражения). [32]
Конечно, возникает вопрос, чем же отличается психологизм «Адольфа», так сильно поражавший читателей, от психологизма романов, современных «Адольфу», как первоклассных (Сталь, Шатобриан), так и второстепенных (Коттен, Криденер, Жанлис). Дело в том, что Б. Констан первый показал в «Адольфе» раздвоенность человеческой психики, [33] соотношение сознательного и подсознательного, [34] роль подавляемых чувств [35] и разоблачил истинные побуждения человеческих действий. Поэтому «Адольф» и получил впоследствии название «отца психологического романа» или «le prototype du roman psychologique». Все эти черты «Адольфа», как известно, указали путь целому ряду романистов, в числе которых одним из первых был Стендаль. Уже в 1817 году Стендаль писал: «Данте понял бы без сомнения тонкие чувства, наполняющие необыкновенный роман Бенжамен Констана „Адольф“, если бы в его время были такие же слабые и несчастные люди, как Адольф; но чтобы выразить эти чувства, он должен бы был обогатить свой язык. Таким, как он нам его оставил, он не годится… для перевода Адольфа». [36]
18
Воздействие Шатобриана на Пушкина — факт установленный. «Мельмота» Пушкин назвал «гениальным произведением Матюрена». На поиски имени Констана в черновиках «Евгения Онегина» навел меня Д. П. Якубович.
19
«Литературная газета», 1830, т. 1, № 1, с. 8 (XI, 87).
20
Предисловие к переводу «Адольфа» (с. VII). Это, однако, неверно: «Адольф» вышел в 1815 г., т. е. после двух песен «Чайльд Гарольда» (1812), «Гяура» (1813), «Абидосской невесты» (1813) и «Лары» (1814), и Байрон прочел «Адольфа» только летом 1816 г. Заблуждение Пушкина и Вяземского объясняется, вероятно, тем, что они прочли «Адольфа» раньше, чем узнали Байрона. Впрочем, они могли знать из журналов или от лиц, знавших Констана, что «Адольф» написан задолго до выхода его в свет. Полевой в крайне враждебном отзыве («Московский телеграф», 1831, ч. 41, с. 231–244) о переводе Вяземского, отмечая эту хронологическую ошибку, говорит, что она доказывает неверность «истин услышанных, а не почувствованных». Этим он, конечно, намекает на то, что Вяземский повторил слова Пушкина. Как известно, Пушкин узнал Байрона около 1820 г. Первое упоминание о Байроне в переписке Тургенева с Вяземским относится к 1819 г.
21
«А я между тем пришлю Вам на днях два приложения к переводу моему: письмо к Пушкину и несколько слов от переводчика», — писал Вяземский Плетневу 12 января 1831 г. (Известия Отд. рус. яз. и слов. Ак. Наук, 1897, т. II, кн. 1, с. 92). Посвящение помечено: «Село Мещерское (Саратовской г.). 1829 года». Этой пометой Вяземский, по-видимому, хотел установить первенство своего перевода.
22
В «Старой записной книжке» Вяземского отмечено 16 июня 1830 г.: «То ли было дело теперь пересмотреть мне моего „Адольфа“, написать предисловие к переводу». 22 июля: «Перечитывал несколько глав перевода „Адольфа“». 25 июля: «Сегодня кончил я мой пересмотр „Адольфа“». 24 декабря: «Вот и Benjamin Constant умер; а я думал послать ему при письме мой перевод „Адольфа“. Впрочем, Тургенев сказывал ему, что я его переводчик».
23
В цитированном выше письме Вяземский торопит Плетнева: «Мой Адольф пропал без вести, а между тем Полевой, всегда готовый на какую-нибудь пакость, печатает своего Адольфа в Телеграфе. Была ли моя рукопись в цензуре?» До какой степени Вяземский был раздражен поведением Полевого, доказывает следующая странная его просьба: «Поверьте с моим переводом перевод Телеграфа. Помилуй боже и спаси нас, если будет сходство. Я рад все переменить, хоть испортить — только бы не сходиться с ним». В письме от 31 января Вяземский повторяет эту просьбу.
24
19 января 1831 г. (в записке с известием о смерти Дельвига). Пушкин мог и лично передать Вяземскому свои замечания. Они виделись 25 и 26 января 1831 г. (см.: Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. СПб., 1910, с. 235). 31 января Вяземский послал Плетневу с Толмачевым посвящение и предисловие, переписанные рукой В. Ф. Вяземской и получившие санкцию Пушкина («Несколько писем кн. П. А. Вяземского к П. А. Плетневу». — Изв. Отд. русск. яз. и слов. Ак. Наук, 1897, т. II, кн. 1). В комментарии Н. К. Козмина к заметке Пушкина об «Адольфе» (Соч. Пушкина, Изд-во АН СССР, т. 9, ч. II. Л., 1929, с. 163, прим.) ошибочно указано, что Вяземский послал Пушкину на просмотр весь перевод романа Б. Констана.
25
Упомянутый комментарий к заметке об «Адольфе».
26
Булгарин, цитируя это место, иронически прибавил: «вероятно, не знающих французского языка» («Северная пчела», 1831, № 274).
27
Известно, что «метафизическим» Пушкин называл язык, способный выражать отвлеченные мысли. Однако когда Пушкин говорит о метафизике характера Нины Баратынского или о метафизическом языке «Адольфа», то, очевидно, имеет в виду психологизм этих произведений. В таком же смысле Вяземский называет «Адольфа» представителем «светской, так сказать практической метафизики века нашего» (предисловие к переводу «Адольфа»).
28
«Остафьевский архив…», т. II. СПб., 1899, с. 280.
29
«У нас не то, что в Европе, — повести в диковинку», — писал Пушкин Погодину 31 августа 1827 г. И еще в 1831 г.: «В прозе мы имеем только „Историю Карамзина“. Первые два или три романа появились два или три года тому назад» («Рославлев»).
30
«Старина и новизна», 1902, кн. 5, с. 50. Курсив мой. — А. А.
31
Вяземский писал, что хотел «изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведать, сколько может он приблизиться к языку иностранному» (предисловие к переводу «Адольфа»). На необработанность русского языка жалобы очень часто встречаются в «Записной книжке» Вяземского, напр.: «У нас жалуются по справедливости на водворение иностранных слов в русском языке. Но что же делать, когда наш ум, заимствовавший некоторые понятия и оттенки у чужих языков, не находит дома нужных слов для их выражения. Как, например, выразить по-русски понятия, которые возбуждают в нас слова: naive, serieux. Чистосердечный, простосердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражает понятия, свойственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить наивный, серьезный. Последнее слово вошло в общее употребление. Нельзя терять из виду, что западные языки — наследники древних языков и их литератур, которые достигли высшей степени образованности и должны усвоить все краски, все оттенки утонченного общежития. Наш язык происходит, пожалуй, от благородных, но бедных родителей, которые не могли оставить наследнику своему… литературы утонченного общества, которого они не знали. Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, политические и философские рассуждения». Приблизительно в то же время (1830) Пушкин называет метафизическими стихи Вяземского: «Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, как узнаете князя Вяземского в станцах метафизических» (курсив мой. — А. А. См. «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой»).
32
«Corinne», livre VII, ch. 1. «De la litterature italienne». Об отсутствии у русских языка, способного выражать отвлеченные идеи, де Сталь писала в книге «Dix annees d'exil». См. об этом в статье Б. В. Томашевского «„Кинжал“ и m-me de Staеl» («Пушкин и его современники», вып. XXXVI. Пг., 1923).
33
Например: «Почти всегда, когда мы хотим быть в ладу с собою, мы обращаем в расчеты и правила свое бессилие и свои недостатки. Такая уловка в нас удовольствует ту половину, которая, так сказать, есть зритель другой» (с. 12). (Здесь и далее цитаты из «Адольфа» на русском языке даются по переводу П. А. Вяземского: Полн. собр. соч., т. 10, Приложение. СПб., 1886, с указанием страницы.)
34
«В этой потребности было, несомненно, много суетного, но не одна была в ней суетность; может статься, было ее и менее, нежели я сам полагал» (с. 7).
35
«Я успел приневолить себя и заключил в груди своей малейшие признаки неудовольствий, и все способы ума моего стремились созидать себе искусственную веселость, которая могла бы прикрывать мою глубокую горесть. Сия работа имела надо мною действие неожиданное. Мы существа столь зыбкие, что под конец ощущаем те самые чувства, которые сначала выказывали из притворства» (с. 42).
36
De Stendhal. Rome, Naples et Florence. Запись 4 января. Этот отзыв Стендаля об «Адольфе» был, вероятно, известен Вяземскому, который в 1833 г. писал А. И. Тургеневу: «Я Стендаля полюбил с „Жизни Россини“» («Остафьевский архив…», т. III. СПб., 1899, с. 233). «La vie de Rossini» появилась в 1823 г., 3-е изд. «Rome, Naples…» — в 1826 г.