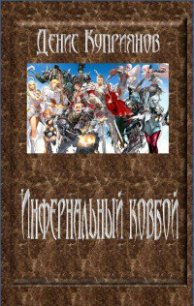Русские Вопросы 1997-2005 (Программа радио Свобода) - Парамонов Борис Михайлович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Тут нужна, конечно, оговорка: музыка имеется в виду не столько как вид искусства, сколько как некая метафизическая форма. Вот тут и начинается Шопенгауэр. И надо вспомнить одно слово, которое у нас, вернее у Толстого, уже появилось: воля. У Шопенгауэра воля - это метафизическая сущность мира, та самая вещь в себе, которую искал и не нашел Кант за миром явлений. Строго говоря, это воля к жизни, всеобщий витальный инстинкт, который и порождает мир явлений, видимых форм, пространственных и временных феноменов. Еще одно важное замечание: мир как воля, воля как метафизическое начало не должна смешиваться с индивидуальной волей, которая существует уже не в метафизическом, а в психологическом ряду. Индивидуальное "я" у Шопенгауэра - вообще иллюзия, впрочем, как и весь мир представлений, объектный мир. И когда Толстой говорит, что музыка лишает его индивидуальной воли, он имеет в виду как раз этот сюжет: в музыке человек соприкасается с метафизикой бытия, в которой не имеют уже значения и ценности индивидуальные, индивидуализированные существа, самый принцип индивидуации. Ибо музыка - опять же по Шопенгауэру - дает чистое выражение этого основного метафизического принципа, она есть эстетическая манифестация мировой воли.
Тут нужно процитировать философских классиков. Сначала - Ницше: "Рождение трагедии из духа музыка"; он передает основную мысль Шопенгауэра:
(Шопенгауэр) признал за музыкой другой характер и другое происхождение, чем у всех прочих искусств: она не есть подобно всем другим отображение явления, но непосредственный образ самой воли и, следовательно, представляет по отношению ко всякому физическому началу мира - метафизическое начало, ко всякому явлению - вещь в себе...
Теперь сам Шопенгауэр:
Музыка, если рассматривать ее как выражение мира, есть в высшей степени обобщенный язык, который даже ко всеобщности понятий относится приблизительно так же, как эти последние к отдельным вещам. Но ее всеобщность не представляет никоим образом пустой всеобщности абстракции, она совершенно другого рода и связана везде и всегда с ясной определенностью. ... Все возможные стремления, возбуждения и выражения воли, все те происходящие в человеке процессы, которые разум объединяет обширным отрицательным понятием чувства, могут быть выражены путем бесконечного множества возможных мелодий, но всегда во всеобщности одной только формы, без вещества, всегда как только некое в себе, не как явление, представляя как бы сокровеннейшую душу их без тела.
Значит, еще раз: в музыке мы встречаемся с сокровеннейшей тайной бытия, и тайна эта - в отрицании видимых, пластических форм существования. "Радость об уничтожении индивида", как называл это Ницше, формулируя свой дионисийский принцип в противоположность аполлоническому началу зримого, телесно организованного мира. Пластические формы видимого бытия - иллюзия, аполлонический сон, как называет это Ницше. Вот сюда и нужно идти за разгадкой Толстого - всего Толстого, не только парадоксов его "Крейцеровой сонаты".
Известно, что он находился под сильнейшим влиянием Шопенгауэра в период написания "Анны Карениной". Но и "Крейцерова соната" вещь шопенгауэрианская, вне всякого сомнения. Я не знаю, обращали ли на это внимание исследователи. Ненависть Толстого к полу в этой вещи - не что иное, как спецификация мысли Шопенгауэра о самоотрицании воли в акте самосознания. Ведь чем заканчивается его опус магнус - "Мир как воля и представление"? Цитирую этот знаменитый финал:
Если мы ... познали сущность в себе мира как воли и во всех его проявлениях познали только объектность воли, проследили ее от бессознательного стремления темных сил природы до сознательных действий человека, то мы не можем избегнуть вывода, что вместе со свободным отрицанием, отказом от воли, упраздняются и все те явления, то постоянное стремление и искание без цели и без отдыха на всех ступенях объектности, в которых и посредством которых существует мир; упраздняется многообразие последовательно движущихся по различным ступеням форм, вместе с волей упраздняются и все ее проявления и, наконец, общие формы последнего, время и пространство, а также его последняя основная форма - субъект и объект. Нет воли, нет представления, нет мира.
Перед нами в самом деле остается только ничто. Но ведь то, что противится этому растворению в ничто, наша природа, и есть только воля к жизни, которой являемся мы сами, как и она есть наш мир. То, что мы так страшимся ничто, есть лишь другое выражение того, что мы так сильно желаем жизни, что мы сами - лишь эта воля и не знаем ничего, кроме нее. Но если мы обратим свой взор от нашей нужды и зависимости на тех, кто преодолел мир, достигнув полного самосознания, нашел себя во всем и затем свободно пришел к отрицанию самого себя, кто только ждет момента, когда исчезнет последняя искра воли, а с нею и тело, которое она животворит, тогда вместо непрестанных стремлений и исканий, вместо постоянного перехода от желания к страху и от радости к страданию, вместо никогда не удовлетворяемой и никогда не умирающей надежды, которая и составляет сон всей жизни волящего человека, - перед нами предстанет мир, превосходящий всякий разум, предстанет полный душевный покой, несокрушимое упование и ясность духа ... Мы свободно признаем: то, что остается после полного устранения воли для всех тех, кто еще преисполнен ею, - в самом деле ничто. Но и наоборот: для тех, чья воля обратилась и пришла к отрицанию себя, этот наш столь реальный мир со всеми его солнцами и млечными путями - ничто.
В "Крейцеровой сонате" ведь не столько пол отрицается и изгоняется, как вот эта самая воля к жизни, к иллюзорному существованию в мире пространственно-временных форм. Интуиция Толстого здесь - буддистская, как и у самого Шопенгауэра, впрочем. Но эта буддистской интуиции он пытался дать христианскую мотивировку. Это особенно ясно в Послесловии к "Крейцеровой сонате", где Толстой, пытаясь объяснить и оправдать свое странное сочинение, еще больше всех запутал и удивил. Там особенно ясно сформулировал он свой тезис: необходимость воздержания от половой жизни; и понятно, что соответствующие обоснования он искал и находил в христианских текстах, где их более чем достаточно, например у апостола Павла. Это и неудивительно, если мы вспомним психологический тип первохристианина, как он проанализирован, скажем, у Розанова: христианин - человек "третьего пола", человек "бессемянный", христиане - "люди лунного света", сублимированные "содомиты" (в последней формуле мое слово - сублимированные, а содомиты - это Розанов говорит).