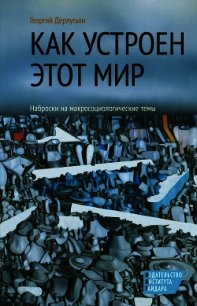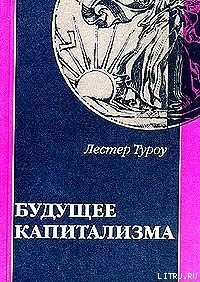Есть ли будущее у капитализма? - Дерлугьян Георгий (книги бесплатно .TXT, .FB2) 📗
Прогнозы Коллинза и Валлерстайна были лишь схематичными набросками. Они не конкретизировали механизмы перехода и последовательность событий, ведущих как к наблюдавшимся в действительности, так и к несостоявшимся историческим результатам. Прогноз Коллинза был основан на экстраполяции в будущее динамики почти столетнего геополитического конфликта в Европе, приведшего в активной фазе к мировым войнам 1914–1945 годов. Эти войны устранили либо значительно ослабили большинство традиционных соперников России, от Османской империи и Австро-Венгрии до Британии, Японии и Германии. Резкое упрощение мировой геополитики после 1945 года — от сложной многополярной системы к бинарному противостоянию в холодной войне всего лишь двух блоков — превратило СССР в сверхдержаву. Но это же особое положение породило издержки беспрецедентного для России масштаба. В затяжном противостоянии с более богатой Америкой и ее союзниками, рассуждал Рэндалл Коллинз в 1970-х, СССР уже достиг той критической отметки, когда цена контроля над собственными союзниками и противостояния с внешними противниками должна стать чрезмерной.
Та же самая модель геополитической динамики указала на условия экономического роста Китая, хотя Коллинз развил эти выводы из своей модели лишь спустя десять лет. В то время мало кто принимал всерьез экономический потенциал миллиардной массы нищих азиатов, которыми правил обожествляемый Председатель Мао. Однако побочным следствием холодной войны двух сверхдержав и их косвенного противоборства во Вьетнаме стало то, что коммунистический, но при этом антисоветский Китай оказался вытеснен на геополитическую обочину в стороне от основного противостояния. Эксцентричная азиатская разновидность коммунистического государства была блокирована со всех сторон силами СССР и США, но при этом ни одна из сверхдержав не имела ни сил, ни особых причин для вторжения в Китай. Тем самым Китаю оставалось, подобно мудрому царю обезьян из притчи, сидеть на своем дереве и наблюдать, как внизу дерутся два тигра. Иначе говоря, геополитические возможности и издержки КНР оказались весьма ограниченными сравнительно с зоной интересов и издержками Советского Союза. Китайскому руководству к концу 1970-х, как и руководству послевоенной Японии, оставалось как-то соответствовать традиционным государственным задачам влияния и престижа лишь на коммерческих путях, наиболее очевидных на тот момент для их региона — посредством экспортно-ориентированной индустриализации, зависимой от американского потребительского рынка.
Иммануил Валлерстайн долгие годы объяснял динамику и дилеммы СССР, сравнивая его с заводом, захваченным профсоюзными активистами в ходе забастовки [14]. Если рабочие попытаются управлять заводами самостоятельно, они неизбежно столкнутся с правилами капиталистического рынка. Рабочие могут добиться лучшего распределения материальных вознаграждений, но не равенства или демократии. Наибольшие «реалисты» среди организаторов забастовки станут восстанавливать производственную дисциплину, убедительно ссылаясь на внешнее давление рынка. В силу «железного закона олигархии» в сложных организациях, узкий круг тех, кто принимает управленческие решения, отделит себя от основной группы и постепенно эволюционирует в новую правящую элиту. Спустя какое-то время идеологический пар полностью уйдет из котла и наступит момент, когда прежние организаторы забастовки превратятся в менеджеров предприятия, более не считающих необходимым приукрашивать действительность. Завод, таким образом, вернется к обычному капиталистическому предпринимательству, и управляющие извлекут выгоду из своего положения. Если угодно, это социологическая версия «Скотного двора» Оруэлла. Но анализ Валлерстайна определил в более ясной и логичной форме структурные предпосылки и причинно-следственные связи вместо иронии по поводу порочной природы людей вообще. Добавлено важное историческое пояснение: социализм в одной стране или на одном заводе неизбежно переродится, пока вся капиталистическая миросистема не будет заменена на некую иную историческую систему, в которой накопление капитала более не будет являться целью, определяющей все прочие цели и системные правила.
Валлерстайн соотносил свою метафору завода под профсоюзным контролем с действительно наблюдавшимися фактами. Советские руководители пытались разменять свои идеологические и военные позиции на экономическую интеграцию с Западом как минимум начиная с 1953 года. Сразу после смерти Сталина многолетний глава тайной полиции Лаврентий Берия провел первую массовую амнистию заключенных ГУЛАГа и дал понять Западу о готовности Москвы вывести войска из Восточной Германии. Берия известен не только как циничный оппортунист, но и как жестко прагматичный управленец. Если бы он реализовал свой предполагаемый план размена Восточной Германии на американскую экономическую помощь, то коммунизм закончился бы значительно раньше. Возможно, Берия правил бы уже не как коммунистический вождь, а как единоличный капиталистический диктатор, допуская отдельных представителей своего окружения к участию в получении прибыли. В 1953 году СССР вступал в лучшую пору своей экономической траектории, когда созданная в годы индустриализации и восстановленная после войны советская промышленность выходила на проектную мощность, а недавно вырванная из деревни и теперь уже обученная многочисленная, неприхотливая и в целом молодая рабочая сила вкупе с промышленной базой создавали оптимальное сочетание для роста. Результат, казалось, мог бы далеко превзойти рыночное возрождение Китая после смерти Мао. Представьте себе на минуту западных потребителей, ездящих сегодня на стильных «Волгах», одевающихся в ширпотреб от «Большевички» (или как бы там назывался этот модный среднедорогой брэнд) и носящих часы «Восток»… Но Берия просчитался во всем, начиная с того, что в 1953 году объединение Германии было совершенно нежелательно для послевоенного западного альянса, а в Европе после десятилетий войны и депрессии имелись в избытке свои собственные квалифицированные и пока не слишком притязательные рабочие.
Как мы знаем, Берия был арестован и казнен соперниками из Политбюро. Это была месть партийной номенклатуры и военной верхушки за страх и унижения от тайной полиции. В 1956 году новый советский вождь Никита Хрущев публично осудил сталинские преступления — и почему-то благополучно пережил эту бестактность. Он был свергнут только в 1964 году после неудачной попытки размыть посредством причудливо задуманных совнархозов позиции неуступчивых бюрократов из гигантских вертикально-интегрированных промышленных министерств, этих советских аналогов экономических корпораций. Номенклатурные кадры, без сомнения, сами желали какой-то умеренной десталинизации. Жить годами в условиях хронического аврала и под угрозой расстрела не согласится никакая даже самая тоталитарная элита. Но советские кадровые управленцы хотели остановить либерализацию режима, как только они сами обрели бюрократический рай: личную безопасность, фактически пожизненные должности, менее напряженный темп работы, щедрые привилегии и комфорт, коррупционные возможности разной степени, и, наконец, снисходительное отношение к просчетам и типичным неформальным уловкам всяких бюрократов, вроде «кумовства» и «местничества». Громадный руководящий аппарат экономических ведомств, созданный во времена индустриального рывка 1930-х годов, сохранился, таким образом, практически неизменным. Отдельные его части даже пережили крах СССР в 1991 году. То, что советская экономика состояла из гигантских блоков, во многом предопределило олигархический характер посткоммунистического капитализма России, Украины и большинства прочих наследующих государств.
Издержки бюрократической самоинкорпорации обнаружились уже вскоре после смерти Сталина. Командная экономика должна быть командной, т. е. иметь своего «Верховного», принимающего стратегические решения по распределению ресурсов и корректировке курса. В отсутствие такового деятельность центрального правительства сводится к бюрократическому торгу, иначе говоря, корпоративному лоббированию между влиятельными министерствами и региональными властями. Долгие экономические споры об эффективности планирования по сравнению с рынком основаны на абстрактно вневременной, а следовательно, ложной посылке, что это взаимоисключающие идеологические альтернативы. Плановая или даже командная экономика будет более эффективной в краткосрочной перспективе, когда ситуация требует чудес крупномасштабного стандартизированного производства, — например, во время войны, восстановления после катастрофы или для совершения индустриального скачка. Командная модель непригодна для длительных и более спокойных периодов, которые требуют диверсифицированных и более гибких решений. Но как осмелиться предложить свернуть гигантское устаревшее предприятие, которое было гордостью первых пятилеток, и чьи влиятельные руководители занимают места в Центральном Комитете? Именно подобные предложения или даже намеки на них и привели к низложению Никиты Хрущева в 1964 году. Советские руководители и идеологи воспитывались нетерпимыми к рыночным идеям, равно как и их капиталистические коллеги в эпоху неоглобализма будут воспитываться в идейной нетерпимости к государственной собственности и регулированию. Неуступчивость промышленных и политических бонз, однако, имела куда более глубокие причины, чем инерционная приверженность ортодоксии. В основе консерватизма брежневской бюрократии был обоснованный страх перед более образованны ми, энергичными и молодыми подчиненными, которые могли сместить своих начальников, если допустить соревновательность и открытую дискуссию.