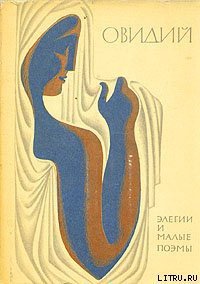Тайная история творений - Отрошенко Владислав (бесплатные серии книг TXT) 📗
И посему работа продолжалась.
Она продолжалась и в 1848 году, когда Гоголь жил в Москве у Погодина. Во всяком случае, всем, навещавшим его в погодинском доме, в том числе и сыну великого актера Щепкина, Гоголь, по словам Алексея Галахова, твердил одно и то же – что он трудиться над вторым томом “Мертвых душ”. Однако сроки окончания труда он называл теперь разные, иногда совершенно фантастические. Поэту и переводчику Николаю Бергу, который, кажется, обстоятельнее других вникал во все тонкости и особенности гоголевского процесса письма, пристально всматриваясь в таинственное как и мало интересуясь всем известным что, припоминается “довольно сбивчивый разговор”, в котором Гоголь, “то оживляясь и желчно браня дуру публику, то вдруг замолкая надолго и впадая в какое-то стеклянное бесчувствие”, требовал дать ему аж 25 лет на отделку второго тома “Мертвых душ” – на проявление одного из самых неподатливых фрагментов “Авьякта Парвы”. Впрочем, Бергу этот нешуточный срок (“Прямо-таки каторжный срок”, – замечает он) вовсе не казался фантастическим. Как и многие друзья-современники Гоголя, Берг (Бергу это можно без оглядки простить, ибо он искренне, совершенно искренне хотел знать даже то, на какого сорта и формата бумаге и, в особенности, какими чернилами – “орешковыми, с бронзовой искоркой!” – пишет скрытный Николай Васильевич) никогда не упускал случая тайком заглянуть в рабочую рукопись Гоголя. И как многие, Берг с удивлением обнаруживал, что Гоголь “вовсе даже и не рисуется”, говоря то с веселой досадой, то с беспомощным сожалением о тех незримых, метафизического происхождения клещах, которыми ему приходится вытягивать (“из сумрачной области непроявленного в область яснопламенного Агни, в область земного света”, – как пели вдохновенные риши) слова, предложения, периоды, многоточия и перлоподобные точки. Иногда эти клещи, о которых Гоголь с особенным постоянством твердил осенью 1848 года – Погодину, Шевыреву, отцу и сыну Щепкиным, Бергу, – застревали в некоем мучительно неясном пространстве между горней “Авьякта Парвой” и дольней рукописью, усыпанной шариками скатанного хлеба и измаранной орешковыми чернилами, надолго, очень надолго. По подсчетам Берга, навестившего Гоголя 17 октября 1848 года, то есть на третий день его водворения в доме Погодина, а затем повторившего визит в средине декабря (и в тот, и в другой раз счастливчику Бергу “представился случай взглянуть мимоходом на рукопись”), Гоголь восемь недель отчаянно писал одно и то же предложение, “внешне уже представлявшее из себя, – повествует Берг, – какое-то баснословное сооружение. Что же до его внутреннего содержания, то судить о нем мог теперь только Всевышний…”
И вот за работой именно над этим загадочным предложением (судя по датам, означенным Бергом) и заставал Гоголя почти ежедневно навещавший его в этот период Щепкин-младший, странный случай с которым заставил автора хрестоматий Алексея Галахова изумляться бессмысленной лживости Гоголя.
Щепкин, в отличие от Берга, никогда не заглядывал в рукописи Гоголя и потому о том, как продвигается работа над вторым томом “Мертвых душ”, судил лишь по насторению Николая Васильевича. Однажды, придя к нему для обычной житейской беседы, не имеющей отношения к литературе, – Гоголь в последнее время любил только такие – о том, о сем – легкомысленные беседы, мгновенно мрачнея и холоднея, как только речь заходила о его писаниях, в особенности же о “Мертвых душах”, – Щепкин увидел, что Гоголь сидит за письменным столом необычайно веселый и счастливый. До такой степени веселый и счастливый, что Щепкин в замешательстве был вынужден поинтересоваться, в полном ли Гоголь здравии, то есть не намерен ли он “вдруг и разом” погрузиться в “мертвящую остылость чувств”, предвестниками которых, по верному наблюдению Щепкина, часто бывали приступы беспричинной радости, изводившие Гоголя не меньше, чем приступы “жизненного онемения”. Не услышав ответа, но и не обнаружив никакой ужасающей перемены в лице и во взгляде Гоголя, – Гоголь по-прежнему, обхватив руками приподнятое колено, высоко и торжественно держа голову, сидел на мягком гамбсовском стуле и с затаенно-выжидательным выражением смотрел на гостя, – Щепкин уже с облегчением, хотя и без должной уверенности, сохраняя оттенок ласковой настороженности в голосе, произнес: “Заметно, что вы в хорошем расположении духа, а?”
И тут вдруг Гоголь, как бы уже не в силах лукаво выманивать из Щепкина иные наводящие вопросы – уже не в силах медлить с торжественным сообщением о том главном, величественном и долгожданном, что вселило в него чувство победоносной радости и счастливого свершения, воскликнул: “Ты угадал! Поздравь меня: кончил работу”.
Да, в тот день, 14 декабря 1848 года, как раз в тот день, когда в дом Погодина нанес свой второй визит любопытник и подглядчик Берг, Гоголь, по сведениям Галахова, изложенным в февральской книжке “Исторического вестника” за 1892 год, объявил Щепкину-младшему о полном и окончательном завершении работы над вторым томом “Мертвых душ”, а стало быть, и над всей поэмой, наконец-таки озаренной, – точно украинская “вдохновенная, небесно ухающая ночь” сиятельно полной луною, – таинственным божеством всезавершающей точки.
Нет нужды говорить о том, в какой бурный восторг повергло Щепкина это знаменательное объявление. “Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс”, – пишет Галахов. Понимая всю глубину и значительность свершившегося – для России, современников и будущих поколений, Щепкин поминутно “и на все лады” поздравлял автора, кланялся ему в пояс от имени всех соотечественников; говорил речи; обнимал бесценного Николая Васильевича, целовал его, хватал его за руки, пытался кружить его в вальсе; охая, падал на диван и снова вскакивал, чтоб целовать, поздравлять, кланяться и кружить. Щепкин просто сходил с ума. Гоголь же на все эти пламенные изъявления то строгих гражданско-читательских, то вольных дружеских чувств отвечал виновато счастливой улыбкой творца, в трудах заслужившего обременительную признательность.
Наконец настала минута прощания. Гоголь, оставаясь все в том же расположении духа, в каком его застал около часу назад явно желанный гость, спросил у Щепкина, провожая того к дверям своей комнаты: “Ты где сегодня обедаешь?” Щепкин ответил, что обедать он собирался у Аксаковых, но в силу открывшихся ему только что столь значительных обстоятельств… “Прекрасно, я обедаю там же”, – перебил его Гоголь и, много теплее обычного простившись с Щепкиным, направился к своему письменному столу и уже у самого стола, не оглядываясь, добавил: “Там все сойдемся и наговоримся”.
Легко представить, с каким волнительным нетерпением, с какими трепетными мыслями, искрометными тостами и сбивчивыми речами в кружащейся голове мчался на этот обед у Аксаковых нечаянно осчастливленный Щепкин – в тот час единственный на всю Россию обладатель долго-, настойчиво-, и томительножданной вести: “Мертвые души” написаны!
Гораздо труднее представить, какие противоречивые чувства вспыхнули в дружески преданном Гоголю сердце Щепкина-младшего во время той драматической – а если уж не избегать здесь давно напрашивающейся риторики, то самой драматической и значительной во всей истории русской литературы – сцены за обедом в доме Аксаковых, которой следовало бы отвести страницы во всех прошлых и будущих хрестоматиях и которую автор хрестоматий Галахов описал очень скупо, – увы, очень скупо, не вдаваясь в столь важные для нас подробности. Впрочем, по Галахову, и без подробностей все выглядело впечатляюще и отвратительно, как бывает впечатляющей и отвратительной всякая ложь.
Как только гости, шумно наполнившие дом Аксаковых, расселись за длинным столом и, как водится, на мгновение поутихли, Щепкин поднялся, обвел всех многозначительным взглядом и торжественно возгласил:
– Господа! Поздравьте Николая Васильевича. Он окончил вторую часть “Мертвых душ”!
Если бы всеобщая трепетная и немая неподвижность, воцарившаяся после этих слов, продлилась более трех-четырех секунд, Гоголя бы уже никто не расслышал (да и слушать бы вовсе не стал) в громе аплодисментов и поздравлений.