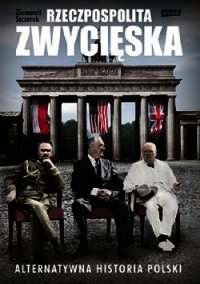Придет Мордор и нас съест, или Тайная история славян (ЛП) - Щерек Земовит (читать книги без сокращений .TXT) 📗
На границе, как и всегда, прошли века. Словацким таможенникам было по барабану, что мы вывозим, зато украинские, во всем блеске постсоветской, бюрократической назойливости, просмотрели, как кажется, каждую тряпочку в багаже пассажиров автобуса. Все пересмотрели, кроме упаковок под сидениями. Вот они по какой-то причине никого не интересовали. Уже успел наступить вечер, а потом и ночь. Таможенники курили и разговаривали о голодоморе тридцатых годов. Я же был, говоря откровенно, слегка удивлен. Я стоял и пялился на Луну, возле которой появилось крупное, белое пятно. Выглядело оно словно комета, готовящаяся столкнуться с Землей, как в начальных кадрах Меланхолии фон Триера [172]. Спустя какое-то время пузатый таможенник в огроменной фуражке и с настолько большими погонами, что если бы столкнуть его с девятиэтажки, он спланировал бы на них как на планере, посчитал, что помучил всех нас уже достаточно. Он отдал шоферу наши паспорта, вроде как пожал ему руку, и мы могли ехать дальше.
Точно так же, как после пересечения границы между Польшей и Украиной продолжалась ткань старой, австрийской Галичины, так и здесь продолжалась старая Венгрия. Но тут она была покрыта совершенно иным налетом. Проявлялось это, среди всего прочего, в том, что действительность рванула с места в карьер и сделалась гораздо более хаотичной. Пространство было гораздо более запущенным. У въезда в Ужгород стоял построенный из кирпича и выкрашенный в розовый цвет замок прямиком из Диснея. Автобус двигался, старательно объезжая дыры в асфальте.
Я же разглядывался по ночному Ужгороду. Для места, в котором с завтрашнего дня собирались объявить независимость, здесь было весьма даже спокойно [173]. Не видно было автомобилей, обвешанных национальными русинскими флагами. А ведь они должны были быть, раз уж готовится подобный цимес [174] и объявляется независимость. Так, по крайней мере, это всегда выглядит в телевизионных новостях.
А тут — ничего. Было темно, и лишь иногда что-то эту темноту пересекало: «лада» или новорусский внедорожник. Автобус подъехал к автовокзалу. Темнота и холод были столь же материальными, как патрули охранников в черных комбинезонах. К бетонной глыбе гостиницы «Закарпатье», что торчала воткнутой в мерзлую русинскую землю советским бунчуком, я шел среди серых блочных домов. Комья грязи замерзли и замечательно крошились под сапогами. Я прошел мимо того, что выглядело как киоск на жилмассиве, но, как оказалось, это была будка, в которой продавали иконы. Киоск с православной метафизикой. Я тоже считал, что это как раз то, что данный жилмассив срочно требует.
До меня быстро дошло, что у Ужгорода два центра. Один старый: низкие каменные домишки и даже целые венгерские цивилизаторские улицы. Венгерское пограничье, а при случае — попытка склепать некий европейский лайфстайл. Пабы и пивные, еще не совсем уклюжие, но возводимые. Женщины с химией на головах, в бесформенных тряпках, навьюченные покупками в пластиковых пакетах — то есть, общевосточноевропейская пейзажная доминанта — соблазнились хипстерским кофе в бумажных стаканчиках, и теперь они попивали его, робко опершись о высокий столик, выставленный перед дверью пивной.
И второй центр. Не столько советский, потому что тогда все имело, несмотря ни на что, какую-то форму, сколько постсоветский. То есть: совершенно безголовый, не имеющий смысла и формы. Гигантский перекресток, делящий город на четвертушки. С одной стороны — гигантский бетонный жилой массив, с другой — гостиница «Закарпатье», на третьей стороне — какой-то идиотский торговый центр, выглядящий словно НИЧТО, безуспешно пытающееся сформироваться в НЕЧТО.
После упадка коммунизма случилось нечто ужасное, что-то, сути чего мы еще не научились замечать. Перед эпохой социализма в нашей части света — то ли в Польше, Словакии, то ли в Украине или России — какая-то форма имелась. То ли навязанная внешними культурными центрами, то ли рожденная здесь внутри (хотя, что здесь внутри, а что наружи? — я не знал). В советские времена форма тоже была. Поначалу соцмодернизм, простое продолжение того, что существовало в междувоенный период, разве что накачанное, моментами, до размеров уже не людей, но некоей людской мегафауны. Примером могут стать те заебавшие рабочие, выбитые в камне или вылепленные из гипса на фронтонах общественных зданий.
Но в девяностые годы, когда все это грохнулось харей в грязь и разлетелось на тысячи кусочков, оказалось, что под низом ничего и нет. Никакой формы. Что мы не умеем строить, возводить, а только клепать. Выплевывать одно на другое, хамски захренячивать получившееся в общественное пространство и лепить с чем угодно.
И-эх, и что тут поделать…
А четвертая четверть вмещала в себе гигантскую церковь с куполами словно позолоченные луковицы, выросшие на некоем гиперудобрении. Церковь была выкрашена в черный, золотой и розовый цвета. Все вместе было таким громадным, настолько уродливым и несоответствующим старому, прелестному Ужгороду, что прямо плакать хотелось [175]. И вот как раз именно там принимал поп Иван.


Это вот старый центр Ужгорода, пост-венгерский… и четвертая четверть…
Я стоял на балконе гостиницы, курил. Глядел вниз, на «лады», «москвичи» и подрихтованные западные автомобили, снующие по перекрестку. Хотя уже сделалось темно, я решил, что визит попу Ивану нанесу еще сегодня.
Поп Иван, ничего не поделать, пиздел как Троцкий.
Когда я пришел, он как раз въезжал на церковное подворье на своем откормленном и блестящем черном «мерине». Выглядел он воплощением всех стереотипов о попах. Из своего мерина он вылез словно какой-то киношный бандюган. Дорогие часы и блестящие туфли. Элегантно подстриженная борода, волосы схвачены в хвостик. Было видно, что вся это пребывание на должности священника для него просто хороший бизнес. И мне было интересно, а не является ли его попадья молоденькой блондинкой со стоящими ракетами сиськами.
Поп забрал меня к себе в хату [176], где только деда с бабкой не хватало. И плакался при этом, что украинское государство гадкое и нехорошее, что они, русины — это соль земли, истинные европейцы, работящие и послушные, а вот украинцы — это все зло земли, лентяи и вообще. Доказывал, что Европа кончается на Карпатах, а русины как раз живут на Карпатах, так что они могли бы Европу защищать, почему бы и нет. В связи с чем, — вещал поп Иван — Европа обязана как можно скорее не только признать независимое Закарпатье, но и принять его в Союз. Потому что, если не сделает так, это будет означать, что Европа сама не верит в собственные идеалы, и вообще, что она — продажная курва.
— И что тогда? — спросил я.
— И тогда, ответил поп Иван, улыбаясь усмешкой Антони Мацеревича [177], - придется нам идти на поклон к Москве.
Из церкви я выходил убежденный в том, что мир, по которому лазят такие «чуды» как поп Иван, обречен на гибель.
В гостиничной пивной девицы изображали из себя холодных блядей, а их дружки — бандюков. Все они в своих ролях были настолько убедительными, что — тут я был уверен — действительно верили в эту блядскость и эту бандюковость.
На другой день, в одном из баров старого города я встретился с другим предводителем движения за независимость. Этот был дантистом, фамилия его была Сидорук [178], и он был крайне порядочным и печальным человеком. Встретиться со мной он договорился по центральноевропейскому времени, то есть, часом ранее, чем указывали все часы на территории Украины, потому что киевского времени он не признавал. Он и вправду родился с неправильной стороны линии Хантингтона [179]. — Киева от нас не видать, — печальным голосом пояснял он. — Карпаты заслоняют. Мы, — продолжал он, — являемся частью иного пространства. Словакия. Венгрия, — перечислял дантист. — Просто-напросто, мы еще одна маленькая центральноевропейская страна, которую кто-то и когда-то безжалостно пришил к чужой туше, — утверждал Сидорук, и, возможно, он был бы и прав, если бы та туша уже не пустила метастазы. Ведь поначалу СССР, а потом и Украина укрепились здесь крепко, очень даже крепко. Но я понимал Сидрука, как я его мог не понимать. А он говорил о том, что когда Гренландия желает отделиться от Дании, то датская королева приезжает в Нуук и благословляет сторонников независимости. Что, когда Шотландия уже не желает быть частью Великобритании, тогда премьер созывает специальную комиссию и вместе с шотландцами ломает голову над тем, как все это лучше провести. А у нас, — одной рукой Сидорук изобразил драматический жест, а второй вытащил из папки повестки в милицию и бросил их на стол. Действительно, мозги (и не только) ему полоскали регулярно.