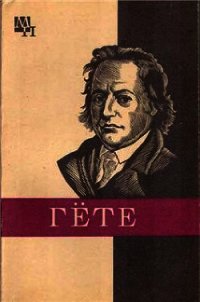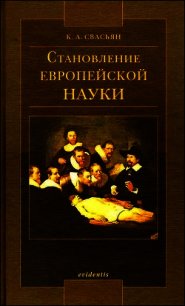Растождествления - Свасьян Карен Араевич (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
В чем же тайна пушкинского равновесия? Серия ответов–загадок напрашивается сама собой. И прежде всего, по совести: на этот вопрос не может быть ответа. Ответ — молчание, не дотягивающееся до слова. Ответ — в восклицании одного из друзей дома Моцартов по поводу концерта, сочиненного четырехлетним Вольфгангерлем: «Сие было чудом». После такого ответа уже позволительны и другие. Равновесие есть равновесие крайностей; сказать, что у Пушкина нет крайностей, значит сказать неправду; он весь в крайностях («Не дай мне Бог сойти с ума» — один из его лейтмотивов), но крайности эти не предоставлены самим себе, а подчинены нормам ритма и взаимоусмирения. Придется еще раз вернуться к школьному учебнику и на этот раз оправдать сорванные когда–то «пятерки»: Пушкин — глубоко народный поэт, глубже всех до и после него бывших; «народный» не в мыслях о народе, не в поволенном народничестве, а в самонародности (самородок–самонародок). Придется, наконец, осознать всю небывалость этого факта: быть избранником (первым среди равных), душой и телом — душой, ставшей мышцами! — осуществлять идею элиты и… писать для всех. Вот, между прочим, что значит равновесие: писать для всех не в ущерб элите, а в осуществление её. Посмотрите на это вдохновение, не знающее «седьмого дня»; разве оно не равно в нем просто физиологии дыхательного процесса? С каждым вздохом — импульс, с каждым выдохом — бессмертие. Я говорил о крайностях; не нужно особой проницательности, чтобы увидеть в Пушкине самые далеко идущие возможности: как пра–вотургеневскую обсахаренную стилистику, так и лево–гоголевский языковой терроризм. Ему ведомы едва ли не все классически запретные зоны переживаний: «бесовски–сладкое чувство» Гоголя, бодлеровское «le plaisir qui tue», «бездна» романтиков и декадентов (в одной песне Вальсингема из «Пира во время чумы» вся палитра будущих декадентских с-умасхождений). Но — еще раз — он не жертва крайностей, а господин над ними; ни одну из них не воспринимает он всерьез и ни одну в шутку, а вернее сказать, на каждую серьезность есть у него щелчок по лбу, и на каждую шутку леденящая душу серьезность. Он, совместивший в себе от века не совместимое, до того несовместимое, что как–то страшно даже поставить друг возле друга эти имена — Вольтера и Арины Родионовны («два подстрочника вдохновения Пушкина», угаданные Мариной Цветаевой), магически парализует смертоносный цинизм первого голубиной простотой второй и виртуозно приобщает вторую к тяжкой стезе культуры первого. Что перед такой крайностью все раздвоения Достоевского! И что позднейшая декадентская пресыщенность перед этим вот (в одной строке) свидетельством безысходно барского нигилизма:
Так в адрес века Просвещения, залитого непотребно плоским, во все углы сующимся светом. На него у Пушкина всегда найдется противовес живительной тьмы: до вздрога уютнейший кот Греймелкин, «кот ученый», разделяющий свою ученость не с энциклопедистами, а с детьми.
Пушкин в теме равновесия, воистину «нерукотворный» Пушкин, остается нам разгадкою, быть может, глубочайшей русской разгадкой, данной наперед, до всяческих загадок, разгаданных в ней наперед, до их появления. И, может быть, самой светлой вестью этой разгадки оказывается то, что с неё и ею началась Россия, русский смысл, небывалыми путями несущийся к встрече с собою — в обетованной культуре Самодуха.
И долго будет тем любезен он народу, что пребудет на этих путях — до исполнения сроков — увещеванием против бесов.
Ереван, 1987
(P. S. Эти беглые странички были написаны в 1987 году для пушкинского юбилейного альманаха в Москве и тогда же отклонены каким–то редактором–пушкинистом. Отклонены — тут нет никакого подвоха — не без основания. Подвох оказывался скорее всего в том, что и написаны они были — не без основания. Я хотел довспомниться до Пушкина, воспринятого однажды телом: мышечно, рефлектор но, витально; Пушкина, на которого — прежде всяческих анализов и закрытых чтений — реагируют однажды мурашками по коже, чтобы потом, забыв это, разместить пережитое в диспозитивах словесных неадекватностей; было бы тщетным занятием искать в написанном какой–то «концепции» или «общей мысли» и, не найдя таковых, вернуться к редакторскому вердикту пятнадцатилетней давности. Их нельзя найти, потому что их нет, а нет их, потому что так этого хотел написавший их. Набрасывая эти заметки, я меньше всего думал о словесности, больше всего о том, что до слов, допустив, что до слов могла бы оказаться некая «музыка»; честолюбием замысла было, таким образом, не сказать что–то о Пушкине, а сыграть это, используя слова как клавиши… Основание основанию рознь: можно вполне понять чувства редактора–пушкиниста, которому вместо ожидаемого куска гранита подсунули прустовское печенье «мадлен»; но можно же понять и тех, кому вместо забытого с детства вкуса неизменно суют под нос меню с единственным блюдом: «гранит».)
Базель, 24 мая 2003.
Достоевский и несть ему конца. К 100-летию со дня смерти
Доклад, прочитанный в Ереванской Государственной консерватории 30 марта 1981 года. Опубликован с сокращениями в журнале «Новая Россия» 4/1995
Достоевский — современник. Сейчас, отмечая 100-летнюю годовщину его смерти, мы, как никогда, должны проникнуться этим чувством: он современник. Редким из окружавших его людей был он современником, но нам, во второй половине этого века, знаем ли мы это или нет, хотим ли мы этого или нет, отдаем ли мы себе отчет во всей головокружительности этого или нет, нам он современник — всем, и тем даже, кому никогда не приходилось читать его, — современник, а вовсе не веха истории литературы. Книги его претерпели за это столетие почти мифическую метаморфозу, обстав нас чудовищными событиями; переплет его творений обернулся нынче переплетом событий души и быта. Кто есть Достоевский? о чем он? к чему? — вот вопросы, тяжесть которых придавливает сердца и умы всех тех, у кого есть сердце и есть ум. Рассказ о Достоевском начинается с его литературного дебюта, а дебют начинается с бреда, достойного его же пера. 24-летнего автора «Бедных людей» открыл не кто иной, как Белинский. «Вот от этой самой рукописи, которую вы видите, не могу оторваться второй день, — вспоминает захватывающую речь Белинского Анненков. — Это роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров, которые на Руси до него и не снились никому». — «Давайте мне Достоевского! — кричит тогда же Белинский Некрасову, — приведите, приведите его скорее!»
Тридцать лет спустя свою первую встречу с Белинским вспоминал сам Достоевский. «Да вы понимаете ли сами–то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая, по своему обыкновению, — что это вы такое написали?… Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами–то эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали».
Экстаз «первого русского критика» и литературного законодателя вкусов не мог сойти бесследно. Уже через несколько дней новоявленный гений становится притчей во языцех литературного Петербурга. Вот некоторые выписки из писем Достоевского к брату, датированных тем счастливым временем; выписки эти интересны не только с историко–литературной точки зрения, но и с точки зрения характерологии: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство на счет меня страшное. […] Все меня принимают, как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский что–то сказал, Достоевский то–то хочет делать. Белинский любит меня, как нельзя более. […] Откровенно тебе скажу, что я теперь почти упоен собственной славой своей». И здесь же настоящие перлы этого упоения: «Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. […] Эти господа уж и не знают, как любить меня: влюблены в меня все до одного». — «Эх, — восклицает он, — самолюбие мое расхлесталось! У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие», — он прав: неограниченное самолюбие и честолюбие граничат здесь с невменяемостью. — «Мой роман произвел фурор». — «Я чрезвычайно доволен романом моим, не нарадуюсь».