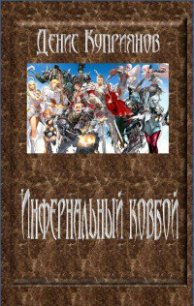Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015 - Смирнов Игорь (книги онлайн без регистрации полностью .txt) 📗
В разговорах с друзьями я определяю себя как атеиста православного розлива. В моей приверженности к русской церкви без понятия о Боге есть что-то розановское, но она пришла ко мне не от автора "Опавших листьев" — от Эдика, веровавшего истово. Вера — то же самое, что и приобщенность к закрытому мыслительному миру психотиков. Мне видятся сейчас просветленные лица корявых пэтэушников и пэтэушниц, окружавших Владимирский собор, что на Петроградской стороне. И их пронимало. Эдик праздновал Христово Воскресение, как правило, со мной и с Сашей (Александром Михайловичем Панченко). Послушав облегчающий ритм сердца пасхальный колокольный звон, несущийся от церкви, и насмотревшись на толпу, бормочущую про себя: "Христос воскресе из мертвых…", мы отправлялись к Эдику, чтобы выпить и закусить сухими еврейскими колбасками, которые присылали ему родители из Кишинева. (Если где и разрешено врать, то в мемуарах, но я хочу быть точным: разговлялись водкой только я и Эдик — Саша тогда не пил). Церковь есть праздник — вот чему я научился у Эдика. И что бы люди ни праздновали, они возвеселяются Духом по той причине, что даже их смерть, исключающая их из посиюсторонности, допускает исключение. Церковь институционализирует нравственность. Как бы ни были мерзки мне все учреждения, я признаю одно из них, потому что без него нравственный почин таких, как Эдик, уменьшил бы свою силу и не смог бы организовать прыщавую массу.
Я защитил кандидатскую диссертацию 16 февраля 1967 г. Эдик отстрелялся чуть раньше. После его защиты мы пьянствовали у него дома — вместе с Димой Шарыпкиным и Женей Вагиным. Пропуская одну за другой, я слегка повздорил с Женей: он считал, что после падения тоталитаризма Грузии не следует давать волю, я же придерживался противоположного мнения. (В том, что он завершится, я был тогда уверен более, чем сейчас.) 16 февраля пушкинодомцы поразили меня своими глазами, смотрящими куда-то мимо меня, когда я, припарадившись, явился на защиту. "П…ц, завалят", — решил я. К моему изумлению, диспут, посвященный моей диссертации, прошел скучнейшим образом благополучно. После того как он состоялся, мне было сообщено до того щадившими меня коллегами, что вчера арестовали Женю, ученого секретаря группы по изданию Полного собрания сочинений Достоевского. Вместе с ним, главным идеологом ВСХСОНа (Всероссийского социал-христианского союза), были взяты под стражу многие другие — в основном гуманитарии. Было отчего побледнеть покровительствовавшему Жене Георгию Михайловичу Фридлендеру, чей не попадающий в меня взгляд был первым, который я ощутил, взойдя на ступеньки Пушкинского Дома. Может статься, что КГБ не тронул меня, будучи осведомленным о моих разногласиях с Женей по грузинскому вопросу. Идея империи была мне, право же, глубоко чужда. Скандинависта Диму Шарыпкина вызвали на допрос тут же после прокатившихся по Ленинграду арестов — как ближайшего друга Жени. Он пришел к следователю в чудовищном похмелье, каковое у него было каждодневным правилом. Решив развязать немой по утрам Димин язык, полковник КГБ услужливо сбегал в тошниловку Большого Дома за пивом. Это было непоправимой ошибкой следствия. Выпив бутылочку "Жигулевского", Дима поплыл, понес околесицу и позднее к выяснению обстоятельств, вызвавших противоправительственный заговор, не привлекался.
Женя писал в своих воспоминаниях: "Уже в процессе формирования первоначального ядра будущей организации только мне лично пришлось иметь дело с несколькими десятками лиц — самого разного возраста и социального положения, которые идеологически и духовно эволюционировали в "нашем" направлении, которым были близки наши идеи, но которые по разным причинам отклонили приглашение вступить в нелегальную организацию. Некоторые из них были признаны нами потенциальным "резервом" на будущее. Дело в том, что предполагалось — помимо строго законспирированного "ядра" — создать широкое легальное движение, участники которого открыто стремились бы к преобразованиям в стране в направлении христианской реконструкции общества" (Евг. Вагин, "Бердяевский соблазн". — "Наш современник", 1992, № 4, 173–174). К Эдику эти слова имеют самое прямое отношение. Как вовлеченного в разговоры о "теократическом государстве", его, что называется, "профилактировали", то есть многократно допрашивали, но не посадили на скамью подсудимых, ограничившись внушением, еще использовавшимся генерал-майором Шумиловым для подавления инакомыслия в Ленинграде, хотя хрущевские времена и миновали. Как и Женя, Эдик увлекался "всеединством" Вл. Соловьева и Тейяра де Шардена, но захват и устройство власти, соответствующей сему идеалу, о чем прежде всего толковала программа ВСХСОНа, сиявшая, как и значительная часть шестидесятничества, отраженным блеском тоталитаризма, его вовсе не интересовали.
Эдик не рассказывал мне в деталях о том, как протекало "профилактирование". Но уже тогда, когда он в ответ на мои домогания о ходе этой процедуры только ожесточенно морщился и отмахивался рукой, я понял, что от травмы, нанесенной ему в Большом Доме, он никогда в жизни не сможет избавиться. Полагаю, что Эдика смертельно поранило то, что государство похитило у него и апроприировало — без какого бы то ни было на то основания — свойственную лучшим из нас способность к прощению. Через стол от Эдика сидела на допросах безобразная карикатура на него. Наверняка Эдику было бы легче отправиться в концлагерь лет на восемь, как это пришлось испытать Жене, чем быть извиненным чиновниками по долгу ихней службы, приобретшей на короткий срок как бы человеческое лицо.
Странно, социофилософия наказания — не слишком развитый дискурс. По Эмилю Дюркгейму ("De la division du travail social", 1893), репрессивные санкции, к которым прибегает общество, нужны ему, чтобы достичь уровня самосознания, обнаруживающего себя в преследовании тех, кто оскверняет его святыни. Питирим Сорокин ("Преступление и кара. Подвиг и награда", 1914) согласился с Дюркгеймом в том, что наказания солидаризируют предпринимающих их, но добавил сюда, что у преступлений нет собственной семантики, что ими могут быть сочтены — в разные периоды человеческой истории — любые действия, выбивающие общество из автоматизма его habitus'а. Георг Руше и Отто Кирххаймер водрузили дискурс о легитимируемой социумом репрессивности в книге "Рunishment аnd Social Structurе", (1939), прославленной Мишелем Фуко, на марксистский пьедестал: способ производства определяет метод урока, который дается проштрафившимся гражданам (так, принудительный труд в тюрьмах внедряется тогда, когда страны, поставившие на меркантилизм, на вывоз товаров, продаваемых за золото, начинают испытывать нехватку рабочих рук). Сам Фуко ("Surveiller еt рunir", 1975) перевел своих предшественников-марксистов на язык более пристойной, чем учение о революции, культурологии: по мере развития общества hоmо сriminalis становится все менее жертвой физической пытки и все более объектом наблюдения и перевоспитания (Шумилов поддержал бы эту пенитенциарную философию). Кого я забыл в перечне? Может быть, Максима Ковалевского ("Современные социологи", 1905), спорившего с Дюркгеймом о том, откуда выводить карающий закон: из вендетты (так думал француз) или из семейного права (что было по душе русскому)? Впрочем, значительного обогащения парадигмы в данном случае нет. Да и происходили ли когда-нибудь настоящие прения с Дюркгеймом у тех, кто вслед за ним размышлял о том, в чем социальный смысл наказания? Тезис, по которому оно скрепляет общество, никто никогда не брал под сомнение. А казалось бы, как немудрено было набрести на лежащую на ладони мысль, что уголовное право выражает собой неверие в добродетель, то есть именно в людскую способность к гармоническому сотрудничеству!
Перевоспитание отколовшихся от общества лиц, которое Фуко, не вполне преодолевший век Просвещения, оценивал как прогресс и которое практиковали на Эдике чекистские педагоги, означает, что закон делает уступку нравственности, которую он умеет только извратить. Этика бытийна, потому что у нее нет эквивалентной замены, как и у сущего. У государства, в противовес нравственности и бытию, есть множество равносильных форм. Но подлинно другого государства не бывает. Есть только другое, чем его перверсный закон, — благодать, снисходящая на немногих, на Эдика в том числе. Преступление семантично, как бы ни старался выковырять из него содержание Сорокин, формалист в социологии. Преступник воспроизводит социального человека, приносящего самость в жертву разыгрываемой им роли — общественно значимой. Нарушитель закона выискивает себе жертву и воплощает тем самым социальность. Свой своего познаше — это и есть уголовное право. Если в его сеть попадается человек высокой этической пробы, оно самотождественно. Его репрезентанты могут тогда самодовольно ухмыльнуться.