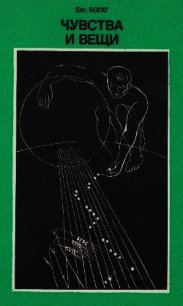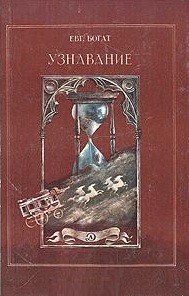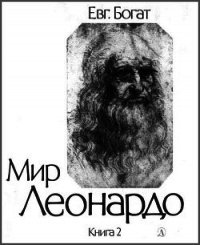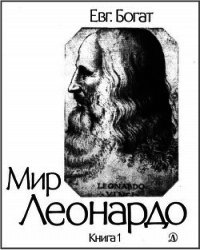Вечный человек - Богат Евгений Михайлович (книги серия книги читать бесплатно полностью txt) 📗
Это был один из тех эйфорических снов, которые видишь на большой высоте с сердцем, обмирающим от игл разреженного воздуха. И я бы, конечно, тут же о нем забыл, если бы не одно обстоятельство: город был украшен камнем и деревом Цаплина. Я видел деревянные фигуры в низких, залитых солнцем залах, за толстым и чистым стеклом, каменные изваяния на перекрестках улиц, странные «формы» выглядывали из зелени садов. Наутро я подумал, что красоты освобожденной руками Цаплина за полвека работы действительно хватило бы на то, чтобы украсить целый город. И это наивное открытие ошеломило меня еще больше, чем самое первое посещение его мастерской.
Людей можно разделить на две части: первая чувствует себя кредиторами человечества, вторая его постоянными должниками. Кредиторы несчастны: сознание, что все — дети, родители, товарищи, народ что-то тебе должны, отравляет жизнь, разрушает личность. Должники испытывают иную, высокую, завидную муку: ощущение неоплатного долга перед жизнью, современностью и человечеством. Это ощущение, видимо, рождается из чувства благодарности за то, что было, есть и будет в мире, за то, что существует на Земле и одаряет тебя несравненной радостью: сотрудничества, сопереживания, сострадания, соучастия в празднике жизни. «Я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии…» Меня неизменно потрясает это чувство вины Маяковского перед вишнями Японии, эта трогательно-возвышенная подробность этики революции, ощущающей планету как личное чудо.
В лучшей части человечества — вечных должников — Цаплин, убежден, занимает одно из самых мученических мест. Особенно усилилось у него это сознание неоплатного долга в юбилейном, 1967 году. Ему казалось, что он третьестепенными, случайными работами отмечает полувековой юбилей революции, заключающий в себе и маленький личный юбилей: пятьдесят лет его труда. Революция, о которой он, не боясь патетики, говорил теми высокими словами, что могли бы показаться несколько книжными, если бы искренность, одушевлявшая их, не убеждала в том, что этими же самыми словами он и думает, революция, которой он был обязан всем, как человек и художник, требовала от него сейчас большого труда. И он решился. На Мытищинском камнеобрабатывающем заводе выторговал глыбы гранита, чтобы изваять десять огромных человеческих фигур, символизирующих величие Революции и сегодняшнюю духовную красоту Родины. Для этой работы были нужны колоссальные силы, в том числе и физические. А было Дмитрию Филипповичу уже за восемьдесят. Он ее начал…
Мне не хочется, однако, чтобы читатель вынес из моего повествования впечатление, что Цаплин был непризнан и одинок. Такое понимание его жизни было бы чересчур облегченным. Трагедия Цаплина сложнее и современнее. Да и можно ли назвать непризнанным художника, о котором наши высшие авторитеты в изобразительном искусстве — Грабарь (до войны) и Коненков (после войны) писали, как о редкостном таланте, чей труд достоин уважения и любви?
И одиноким он не был, особенно в последние годы, когда его благодарно окружала молодежь. Мастерская Цаплина почти никогда не пустовала. Это даже мешало ему работать: толпились студенты, ученые, моряки.
Цаплин в высшей степени был одарен желанием — дать. И он дарил тем, кто шел к нему, высшую радость — радость искусства; и, даря, страдал от сознания, что мог бы дать гораздо больше. Он мечтал о той безраздельной отдаче, когда все-все созданное художником уходит от него, растворяется в народе.
Величие коммунистического общества — общества, которое мы строим, — и состоит в том, что оно создает условия, при которых желание дать осуществится в неслыханной полноте, когда никто и ничто не сможет отклонить дарующую руку.
Конечно, я мог бы сейчас написать о зависти, безразличии и душевном холоде. О ворохах пустых обещаний. О товарищах по искусству, решивших, видимо, что мысль о его судьбе отвлекает от радости творчества. Я мог бы написать сейчас еще о многом, но не буду этого делать, потому что нравственно не в состоянии обвинять: он умер, не дождавшись и моей статьи.
Многие из нас помнят еще с детства мудрое поучение Льва Николаевича Толстого: «Спросили у мудреца, какое время в жизни самое важное, какой человек самый важный и какое дело самое важное».
И мудрец, как известно, ответил: «Время самое важное — одно настоящее, потому что в нем одном человек властен над собой.
Человек самый важный тот, с кем в эту минуту имеешь дело, потому что никто не может знать, будет ли он еще иметь дело с каким-либо другим человеком.
Дело же самое важное то, чтобы быть в любви с этим человеком…» Разумеется, мудрец Толстого имел в виду деятельную любовь.
Опасен, я думаю, не душевный холод — к тому же в чистом и цельном, так сказать, «арктическом состоянии» встречается он крайне редко, — гораздо опаснее в реальной, обладающей современным ритмом жизни душевная рассредоточенность, которая каждому уделяет по крохе, никого не делая счастливым.
Е. Кузьмина-Караваева

Мне хочется, чтобы когда-нибудь написали книгу о женщинах, которым посвящали стихи великие поэты. О красавице Лесбии, жившей две тысячи лет назад в Риме и сводившей с ума поэта Катулла. Он писал ей в одном из стихотворений: «…обманутым сердцем можно сильнее хотеть, но невозможно любить», — открыв тем самым новые, до сих пор малоисследованные материки в человеческом сердце. О Лауре из Авиньона, которой Петрарка посвящал сонеты и канцоны двадцать лет при ее жизни и еще десять лет после ее смерти. Уже шестидесятипятилетним человеком в годовщину первой встречи с Лаурой — спустя сорок два года! — он достал рукопись давным-давно написанного сонета и заново его переписал: «…в год тысяча трехсот двадцать седьмой, в апреле, в первый час шестого дня, вошел я в лабиринт, где нет исхода».
В этой книге можно будет рассказать о русских декабристках, об Анне Керн…
И я хотел бы, чтобы в этой книге была глава о судьбе девочки, которой Александр Блок 6 февраля 1908 года посвятил удивительные стихи:
Я с детства люблю эти стихи, но почему-то никогда не задумывался над тем, кто стоит за ними. Почему-то никогда не появлялось у меня мысли о том, что вот была же реальная пятнадцатилетняя девочка с именем, с судьбой… И быть может, я никогда и не подумал бы об этом, если бы однажды в мой редакционный кабинет не вошел высокий оживленный человек: известный участник французского Сопротивления, испытавший на себе режим застенков гестапо и концлагеря в Бухенвальде, — Игорь Александрович Кривошеин. Он положил передо мной книги, выпущенные в Париже тотчас же после войны, письма и рукописи, и я узнал об одной из удивительных и почему-то до сих пор почти неизвестных у нас судеб.