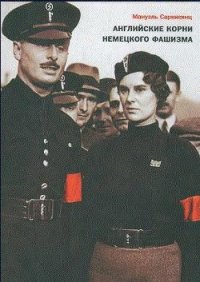Черная сотня. Происхождение русского фашизма - Лакер Уолтер (е книги TXT) 📗
Почему же так важно определить русскую специфику? Трудно найти хоть сколько-нибудь крупного французского или британского мыслителя, который потратил бы много времени и усилий на подобные размышления о своей нации. Специфически французское очевидно и понимается инстинктивно, оно не нуждается в определениях и разъяснениях. Единственная крупная страна, где время от времени занимались похожими поисками национальной идентификации, — это Германия, да и там результатом были не слишком помогающие делу obfter dicta [164] вроде знаменитой вагнеровской фразы: «Быть немцем — значит делать что-нибудь для самого себя». Столь отчаянные поиски точного определения национальной идентификации (и предназначения) могут быть весьма точным признаком слабости и неуверенности тех наций, которые либо совсем недавно достигли полной независимости, либо по каким-то причинам уверовали в то, что их прошлые выступления на сцене мировой истории не могут сравниться с выступлениями других народов, и которые полагают, правильно ли, ошибочно ли, что их предназначение не сбылось. Такие поиски говорят о неудовлетворенности собственной историей. «Русскость», как отметил один критик, не имеет современного содержания — она связана с тоской по прошлому, нередко весьма далекому [165]. Здесь явно возникает опасность затеряться в мифах давних веков. Пусть у русских нет ничего похожего на Нибелунгов — зато у них хватает рыцарей в сверкающих доспехах, разных Мстиславов и Ростиславов, деяния которых воспеты в эпосах раннего средневековья. Когда француз говорит о своей стране, он обычно называет ее la belle France (прекрасной Францией), англичанин ввернет несколько слов о merry old England (веселой, или доброй, старой Англии), немец начнет рассказывать о чем-нибудь treudeutsch (чисто немецком). И только русский националист станет взывать не к эстетическому, этическому или политическому идеалу, а к идеалу морально-религиозному — «Святая Русь» [166].
Русская правая по традиции мало интересуется экономической политикой. Неприязнь к этим вопросам она демонстрирует постоянно, но вряд ли когда в ее идеях можно было найти реальные альтернативы. В известном письме 74 писателей и деятелей культуры (1990 год), одном из основных манифестов русской правой, много говорится о нацизме, сионизме, русофобии, патриотизме и тому подобном, но нет ни единого упоминания о национальной экономике — и это в период ее глубокого кризиса [167].
Это свойственно многим консервативным движениям во всем мире, равно как и фашизму. Но есть и существенные отличия. На Западе консервативное сопротивление индустриализации не было столь мощным, как в России. И проблемы индустриализации там не были настолько острыми, и не приходилось время от времени начинать все сначала. В царской России большинство консерваторов выступало против индустриализации, против возникновения класса промышленников, предпринимателей и банкиров, в котором они не без оснований видели опасность для России в их понимании. Правые, конечно, сознавали, что оплот царизма — это аграрная Россия. Они правильно понимали, что расширение экономической свободы рано или поздно приведет к расширению свободы политической, а этого они и страшились. Если уж Россия должна развиваться и модернизироваться, то управлять процессом обязана бюрократия. Однако у государства нет ни технической компетенции, ни средств для выполнения этой задачи, оно может лишь контролировать развитие, поддерживать его или тормозить. Роль предпринимателя и инвестора оно играть не может. Таким образом, именно буржуазия, а не рабочий класс стала главным врагом консерваторов, призывавших к созданию единого фронта против «капиталистической эксплуатации». Однако в деревне этот призыв не нашел заметного отклика, а в городах — вообще никакого.
Антикапиталистическая позиция русской правой, сформировавшаяся до 1914 года, и по сей день представляет интерес, поскольку лейтмотив и аргументы сохранились практически без изменений: рынок, капитализм не подходят России. Это проповедуется постоянно, с большей или меньшей изощренностью. Геннадий Шиманов, лидер крайне правых до и во время перестройки, утверждает, что капитализм от Ветхого завета до Ротшильда — изобретение евреев, впрочем, как и коммунизм. Их мировое финансовое господство было и остается ключом к мировому господству вообще.
Менее эмоционально доказывается, что Россия не подходит для капитализма хотя бы потому, что русская этика не протестантская, не кальвинистская, не католическая, а православная [168]. В свидетели обвинения призываются Макс Вебер, Зомбарт и даже Арнольд Тойнби. Тот факт, что Япония производит более качественные товары, чем христианский Запад, объясняется психологией выживания и силой национальных традиций в Японии. Поскольку психология и моральные ценности русских радикальным образом отличаются как от западных, так и от восточных, капитализм в России в любом случае обречен на неудачу. Он просто превратит Россию в страну «третьего мира».
Короче говоря, рынок — не панацея от болезней России, а ловушка. Какое же средство предлагают консерваторы для лечения экономики? Напрасны поиски ясного ответа в трудах Михаила Антонова и Сергея Кургиняна, наиболее известных правых публицистов эпохи перестройки.
Антонов стал известен примерно четверть века назад как диссидент-христианин. Он написал работу о социальном учении славянофилов, отстаивал нечто вроде деиндустриализации России и предлагал перевести главные производства в Сибирь (сибиряки встретили эту идею без особого удовольствия).
Антонов был членом компартии, но, по его собственным словам, в середине 60-х годов пришел к выводу, что марксизм — доктрина, глубоко чуждая русскому народу [169]. На деле обращение произошло, по-видимому, несколько позднее, ибо в 60-е годы Антонов еще заявлял, что «сочетание русского православия и ленинизма сможет дать русскому народу мировоззрение, способное синтезировать его вековой опыт как нации» [170]. Оказывается, не только советские либералы, но и многие правые продолжали претендовать на Ленина и ленинизм вплоть до 1988 года и даже позже. Правые противопоставляли хорошего Ленина плохому Троцкому, презиравшему и ненавидевшему русский народ. Антонов побывал в заключении, но в конце 70-х годов был реабилитирован. На заре гласности он опубликовал ряд больших программных, неплохо написанных работ в основных консервативных журналах («Молодая гвардия», «Наш современник»).
В какой-то степени его критика была хорошо аргументированной, например, когда он писал о неисправимом экологическом ущербе, нанесенном форсированной индустриализацией. Но на эти темы много писали и раньше, а когда дело доходит до практических предложений, наш автор явно не знает, что делать. Он утверждает, что России, по всей видимости, не следует стремиться к уровню жизни, сопоставимому с западным или японским. В этом нет особого несчастья, ибо русские идеалы и ценности иные, чем на Западе (или в Японии), — они духовного, а не материального свойства. Русскому сердцу ближе аскетическая жизнь, чем западное общество потребления. Русским рабочим и крестьянам следует внушить эти забытые идеалы, бюрократия должна быть очищена от проникших в нее преступных элементов. В результате производительность труда в стране повысится и уровень жизни возрастет. По мнению Антонова, болезнь экономики — это скорее моральная, нежели хозяйственная проблема.
Антонов весьма почитался правыми. В 1989 году он стал руководителем новой организации, призванной хранить русские культурные традиции. Но его концепция не была принята всерьез даже единомышленниками. Н. Н. Лысенко, председатель Республиканской народной партии, назвал ее «буколически-православно-моральной экономикой» и заметил, что вряд ли в результате патриотической индоктринации русские рабочие с энтузиазмом отнесутся к призывам работать больше и тяжелее или стоять в очередях за плохими товарами [171]. Сергей Кургинян приобрел известность как автор пространных статей, а также как автор-составитель книги «Постперестройка», в которой он обнаружил немалую литературную эрудицию. В одной статье он цитирует не только Шекспира, Гете и Достоевского, но и Шпенглера, Тойнби, Геделя, Сведенборга и Якова Беме. По профессии он актер и продолжает работать режиссером московского экспериментального театра «На досках». Кургинян имеет также ученую степень. В период гласности он возглавил в Москве Экспериментальный творческий центр (нечто вроде политологического «мозгового треста»), который возымел некоторое влияние. Работы Кургиняна цитировал бывший премьер Павлов и другие высокопоставленные коммунистические руководители [172]. Сильная сторона Кургиняна, как и Антонова, критика, в основном направленная против советников Горбачева и Ельцина и их иностранных помощников. Но, как и у Антонова, напрасно искать у Кургиняна подробные конструктивные разработки и альтернативные концепции. Точнее говоря, они имеются в избытке, что может привести читателя в растерянность. В противоположность Антонову, Кургинян называет свой подход неоконсервативным и неотрадиционалистским, и ярлык авторитаризма не пугает его. Кургинян — патриот-технократ; он считает положение крайне плохим и полагает, что народу следует сказать правду об этом. Модернизацию следует проводить, не впадая в зависимость от иностранных кредитов. Разумеется, это можно сделать только в том случае, если государство сохранит решающую роль в хозяйстве страны и если сверху будет насаждаться жесткая дисциплина при условии изрядной идеологической обработки. Но поскольку Кургинян, в отличие от Антонова, не русский, славянофилы не столь привлекательны в его глазах и отстаиваемый им патриотизм — это государственный патриотизм; государство, а не народ является высшим авторитетом.