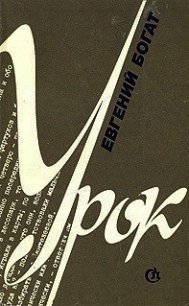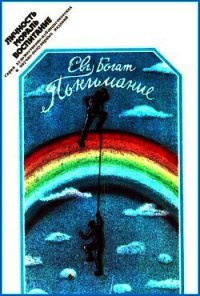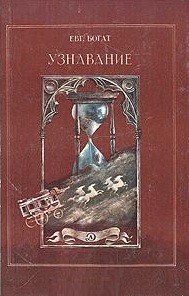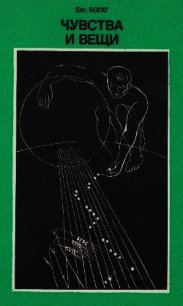Избранное - Богат Евгений Михайлович (книги без регистрации .TXT) 📗
Диалог третий
Письма Петрарки
В юности, после войны, я, как и многие мои ровесники, пережил полосу запойного увлечения Эрмитажем в Ленинграде и Музеем изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. С утра забирался я в тихие залы с темными, тускло мерцающими пятнами картин, ошалевал и удивлялся быстротечности часов, когда мне напоминали, что уже вечер и пора уходить.
Потом я обжился в мире картин и начал делать различные открытия. Однажды, рассматривая «Странствующих гимнасток» Пикассо, я нашел, что одна из них весьма похожа на «Афину» работы Фидия. Да, передо мной была любимая дочь Зевса — постаревшая, измученная, и я подумал, что с ней, повелевавшей некогда судьбами городов и героев, тысячелетия обошлись беспощадно. Угловатая, с вымотанным, безразличным лицом, гимнастка за столиком кафе была похожа на победительно юную богиню Эллады, как похожи написанные Моне «Руанский собор в полдень» — соразмерная масса расплавленного золота — и «Руанский собор вечером». Тот же самый собор, деформированный резкими лиловыми полосами, утратил на полотне не только соразмерность, но даже устойчивость; кажется, он вот-вот упадет, не дождавшись нового полдня. Подобные маленькие открытия, вероятно, объяснялись бессознательным желанием увидеть за полотнами больше того, о чем непосредственно рассказал художник: изменение — из века в век — душевных состояний, усложнение человеческого духа, историю развития характеров и типов. Сильные лица мужчин эпохи Возрождения оживали в камне Родена, но камень этот в отличие от безмятежно суровых или добродушно жестоких образов старинных полотен страдал и мыслил.
Мне казалось тогда, что антверпенский врач Махеркейзус Ван Дейка любит камеристку Рубенса; вечерами, когда я ухожу из Эрмитажа, он идет к ней в соседний зал, и утро застает его на излете чуть подернутого иронией, мучительного для обоих объяснения, — оттого и этот остановленный на полуслове, детски грациозный поворот головы и мольба полураскрытой ладони.
Думаю, что не стоит утомлять дальше читателя подробным рассказом о том, как ощущение хрупкости и мгновенности счастья на полотнах Ватто соединялось с переживанием белых ночей, а женщины на английских портретах XVIII века казались инопланетными существами. Существенно не это. Важно, что однажды я совершил открытие, к которому и сегодня отношусь совершенно серьезно. Я понял, что картины можно разделить на говорящиеи слушающие. Самыми говорящими были ясные и мощные работы Пуссена, а самыми слушающими — полотна Рембрандта. Стоило подойти к любому из них — и охватывало чувство, что меня слушают.
Чувство это было настолько реальным, что через минуту я уже сам не верил, что стою перед картиной молча. Но в том-то и дело: она была настолько сосредоточена на мне, что ей и не нужно было, чтобы я говорил; безмолвное, бескорыстное понимание утверждало себя как одна из высших форм человеческого общения.
Его старики, библейские герои, молодые женщины, сукноделы, врачи, старухи, а на офортах — нищие, деревья, дороги, — весь мир Рембрандта хочет одного: слушать тебя. И это особенно потрясает по контрасту с модным современным искусством Запада. Один из исследователей известного шведского кинорежиссера И. Бергмана весьма точно замечает:
«Камера Бергмана следует за тем, кто говорит, и лишь редко за тем, кто слушает».
Герои Бергмана умеют только говорить, говорить в вакуум, именуемый сегодня некоммуникабельностью. Они наделены лишь четырьмя чувствами; пятое — слух, сохранившись физически, нравственно атрофировалось. Путь западноевропейского человека — от Рембрандта до Бергмана — путь утраты одного из самых дорогих даров человеческого мира — дара общения.
Герои фильмов Бергмана одиноки, изолированы от мира и несчастны. С точки зрения логики человеческого поведения они ведут себя загадочно: жаждут понимания и нежности — и не видят, не чувствуют их, когда они физически ощутимо рядом, боятся боли и отчаянно идут ей навстречу. Разгадка в том, что большинство героев талантливого кинорежиссера не личности, а вещи одушевленные. Они бунтуют, потому что наделены сознанием и не хотят быть вещами, и они ожесточаются в бунте, чувствуя его безысходность. Может ли вещь испытывать интерес к вещи? Не в историях Андерсена, а в реальной жизни!
Более ста лет назад современник и соотечественник Андерсена, мыслитель Кьеркегор, утверждал, что «отсутствие души — тоже душевная болезнь». Фильмы Бергмана показывают новую форму сумасшествия: распад личности при последних зарницах понимающей и не желающей понимать этого души. Один из героев «Земляничной поляны» — молодой Борг наслаждается одиночеством, как наслаждается больной, извращенный человек мазохизмом.
В той же «Земляничной поляне» старый одинокий Борг видит сон. Сумерки рассвета… обнаженно пустынные улицы… большие часы без стрелок над мертвой мастерской… старинный конный катафалк… Тощие лошади, тянущие похоронную карету, кажутся единственными живыми существами в безмолвном черно-белом мире. Когда же катафалк распадается на части и лошади убегают, Борг наклоняется к медленно поднимающемуся с земли покойнику и узнает в нем себя.
В этом сне безумие одиночества: если единственно возможной для тебя формой общения стало общение с собой, то однажды на рассвете ты рискуешь очутиться лицом к лицу с покойником и узнать в нем себя.
Улицы, по которым идет во сне старый Борг, и похожи и непохожи на земные. Пепельное освещение и мертвая тишина сообщают им что-то фантастически лунное. Это не «земля людей» и не земля человека, это земля послечеловека, земля, утратившая солнечную суть, на ней не шумят деревья и не играют дети. В образе города с уличными часами без стрелок зло одиночества обнажено беспощадно. Оно выступает как небытие. В этом философское содержание сна старого Борга.
После Бергмана отрадно вернуться к Рембрандту — к его старикам и деревьям. Раньше мне казалось, что полотна Рембрандта повествуют об одиночестве, а уютные картины его менее талантливых современников — «малых голландцев» с их пирушками, домашними концертами, любовными утехами — о теплой человеческой общности. Дело, наверное, в том, что я рассматривал эти маленькие картины издали, поэтому ощущал их общую атмосферу, но не видел по-настоящему лиц изображенных на них людей. Рембрандт показывает человека, они — сюжетные мимолётности жизни. Люди веселятся, сушат у камина башмаки, играют в карты, музицируют. И это радует, пока не видишь лиц. Лица убивают радость; они бюргерски самодовольны и равнодушны. В них нечто от толстых стен покойного дома, за которыми можно забыть о нищих и бездомных, об одиноких стариках и старухах. Усадили бы в этом доме за стол безденежного и «безнравственного» художника Рембрандта? И что человечнее: одиночество героев его полотен или бездуховное общение маленьких веселящихся буржуа?
Наверное, бывают различные роды одиночества и разные виды общения. Что общего между одиночеством Борга и одиночеством «Старика в красном», который через триста лет в тебе, живом, узнает себя.
Человек как мыслящее существо, как личность заключает в себе более или менее весомый плюс — « я плюс человечество». Именно этим, а не видимыми, поверхностными формами и определяется содержательность его общения с остальными людьми, с миром.
«Человеку, мыслящему современно, смешно многое из того, о чем Вы пишете. Так же, как некоторые восторженные девицы восклицают: „Ах, Бах!“, „Ах, орган!“, Вы восклицаете между строк в Ваших книгах: „Ах, Сократ!“, „Ах, Цицерон!“, „Ах, мудрые обширные письма!“. Будьте откровенны и напишите однажды не между строк, а прямо, что Вам хотелось бы сидеть вечерами у камина в гостиной и беседовать с дорогими людьми о „Шиллере, о славе, о любви“, закрыв окна поплотнее, чтобы не доносился отвратительный рев автомобилей или, не дай бог, самолетов. Но, увы, нет ни античных портиков, излюбленных мудрецами, ни дилижансов, которые нагружены доверху очаровательными письмами, ни даже гостиных с подлинными каминами, а есть телетайпы, радио, телефоны, газеты, телевидение и тому подобные подробности электронного века. Они создают в совокупности некую гигантскую шарземную нервную систему, наподобие той, которая обеспечивает беспокойную жизнедеятельность моего или Вашего тела. И беда не в том, что совершенно естественно умерли старые локальные формы человеческого общения. Беда наша гораздо конфликтнее, и мы ощутим это в полной мере завтра: формы-то в самой жизни умерли, но в нас самих действуют и долго будут действовать механизмы этого частного общения, не соответствующие новому миру, той новой ситуации, которую создает развитие „мировой нервной системы“.
Издавна, от первобытной эпохи, любая новая технология расширялачеловека: каменный топор (для руки), дома (для кожи), радио (вместо голоса). Но если раньше любая новая технология была закрытой системой, то есть действовала в изоляции от остальных, то сегодня родилась иная ситуация: системы объединились в уже упомянутой мной исполинской нервной системе человечества, они уже не существуют сами по себе, а сосуществуют. Одновременно „расширены“ ноги, руки, уши, сознание (электронно-вычислительные машины), я уже не говорю о величайшем даре — даре видеть мир: от космонавта в полете до ловли акул у берегов Японии.
И эти возможности, эти „расширения“ существуют, повторяю, одновременно, создавая, в сущности, новую структуру человеческого бытия; завтра, еще при нашей жизни, станет, вероятно, реальностью передача на расстоянии мыслей, что структуру эту усложнит и обогатит еще больше.
Человек столь симпатичной Вам эпохи „свечей и карет“ пользовался для общения с ему подобными двумя возможностями: речью и письмом. Он кажется Вам богачом, а мне нищим! Я вижу, слышу, осязаю — воспринимаю, переживаю реальность более полно.
Конечно, это еще не универсальный ключ к действительности, но это уже надежда на самую возможность универсального ключа.
Механизмы частного общения, действующие в нас по инерции, мешают нам осознать отчетливо новую ситуацию и довериться ей. Вы сидите с сослуживцем (или женой) у телевизора. Вас почти касается руками африканский мальчик из фантастически далекого села, и Вы, наблюдая его, — именно наблюдая! — обсуждаете вероятные передвижения на работе или целесообразность покупки нового ковра. Вы и не с ним, мальчиком, и не с Вашими собеседниками рядом, Вы и не сами с собой! Вы выпали из структуры современного мира и, засыпая, возвышенно и печально размышляете о кризисе общения.
Но обратитесь к истории — и Вы поймете, что подобные кризисы во все переломные века испытывали те, кто выпадал из новой структуры мира. Мне, филологу и лингвисту, это хорошо известно. Возьмите эпоху Шекспира: когда читаешь пьесы его современников, кажется, что действие их развертывается не на Земле, а на безмолвной пустынной Луне. (Это похоже, пожалуй, на фильмы нашего современника шведа Бергмана.) Холодные, одинокие, изолированные от человечества люди сталкиваются чисто механически, подобно бильярдным шарам. И в те же самые десятилетия были написаны „Ромео и Джульетта“, „Двенадцатая ночь“, „Много шума из ничего“, „Отелло“! В эпоху Шекспира человек шагнул из постели-шкафа (в этих постелях-шкафах удобно устраивались на ночь юные подмастерья) в незнакомый, полный опасности и непредвиденных возможностей мир. И художник, который не отвернулся от этого мира, а посмотрел отважно и трезво ему в лицо, написал „Виндзорских кумушек“ и „Гамлета“. Один из его героев говорит: „Тебе подвернулись умирающие, а мне — новорожденный“.
В самых суровых его трагедиях человек не может жить без человека: души его героев открыты новому миру, а овладеть этим миром можно лишь сообща с возлюбленной или добрым товарищем.
Те же современники Шекспира, кто оплакивал душную постель-шкаф и отвернулся от нового мира, писали чисто бергмановские вещи.
Может быть, античные портики, и гостиные с каминами, и дилижансы с письмами, по которым, как мне кажется, Вы тоскуете, — тоже варианты постели-шкафа?
Пишу это я, желая Вам добра, хочется видеть Вас человеком, современно мыслящим. Но, откровенно говоря, не особенно уповаю на успех. Думаю, закончив читать мое письмо, отложите Вы его, забудете и углубитесь в дорогие Вам письма Цицерона, Абеляра, Петрарки…»