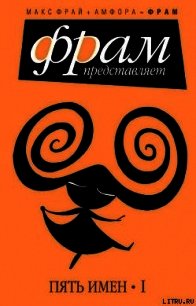Беспокойники города Питера - Крусанов Павел Васильевич (читаемые книги читать .txt) 📗
…она заплакала капая слезами, они падали на меня прошивали тело пули утреннего расстрела затем швырнули в лодку и до сих пор кто-то носится в ней по темным волнам в неизвестных морях и неизвестных мирах.
Как червь во флейте задремал у истоков антимира; хотелось продлить сон — жаль расставаться с Пустотой: тоны тонноклокотов: оратория тартаротрат. Свет лопнул — роды глаз. Долго, до последних отжатий слезных желез вопрошает искатель щей. У кого? Но ни болт, выточенный до универсума, ни всезаполняющие хлеба не дадут ответа. Монолога не… Диалога не. И что бы ты ни делал — отсюда ноги не уберешь. Мир — больница, в коридорах которой в жмурки должно играть. Что поделать? — пожизненный иск лазаретных щей. Конечно же помнишь их вкус.
Непонятное так наскучило, что злостно ударил по небоскату и сбил мошкару облаков, кинул их к ногам Отца. — Что ты натворил? — Мне что-нибудь поинтереснее, чем жизнь! — Хочешь видеть горы музыки, летающей внутри черного света? — А такое бывает?..
Здесь на языковом материале происходит разрушение нашего мира, вместо акта созидания, присущего художнику, начинается обратное движение от Космоса к Хаосу. То же самое можно наблюдать в стихотворных текстах.
Заметьте, тут нет взгляда на разрушение как на творческий акт, нет пафоса уничтожения и упоения погромом. Гран просто разбирает наш мир, как изношенный автомобиль, на исходные составляющие, это — деструкция в точном смысле слова (деструктурирование). Зачем Кудряков это делал — сказать трудно. Возможно, его неодолимо влекло к начальному Хаосу как таковому, и Борис стремился его реконструировать, подобно тому, как некоторые люди живут мечтой о воссоздании по ДНК живых динозавров. Но может быть, его замах глубже, а дерзость вообще беспредельна — и Хаос для него не самоцель, он пробивался к Хаосу только для того, чтобы на его основе построить свой антимир, антикосмос.
Ответа на этот вопрос мы никогда не получим. Даже если бы Гран знал ответ, он не стал бы отвечать ни нам, ни себе — привычка быть непостижимым даже для самого себя стала ему императивом.
Тот же дуализм (художник — антихудожник) был присущ Грану во всем, что он делал. В частности, и в фотографии.
Проводя мастер-класс в фотошколе, он учил слушателей:
— Не ищите специально сюжетов. Снимайте, что есть вокруг. Пусть это будут фотографии ни о чем, но через несколько лет вы получите огромное удовольствие, снимая на этом же месте.
Понятно, слушатели про себя улыбались: маэстро советует отснять незнамо что и лишь через несколько лет посмотреть, что из этого выйдет. Посоветовал бы лучше, как сделать эффектный снимок к ближайшей выставке!
Сам же Гран-Борис следовал своим рецептам. Он снимал то, что просто лежит. Он почти никогда не выставлял фотографии как таковые, а создавал комбинированные объекты. Их составляющими были сами снимки, порой замаскированные под старые любительские карточки, надписи на фотографиях, рисунки Грана и рукописные тексты, иногда свои собственные, а иногда — потертые листки из чьих-то школьных тетрадей. Эти сложные и странные артефакты с удивительной точностью передавали настроения тех или иных прошлых лет и аромат ушедшего времени. В этом жанре Борис выступал как хотя и своеобразный, но в основном вполне нормальный художник-созидатель.
В «застойное» время его серия туманных городских пейзажей Петербурга была опубликована в швейцарском «Зуме», и для нас это было тогда прямо-таки сенсацией. На границе бдительные таможенники выдрали из журнала все страницы с «обнаженкой», но снимки Грана, к счастью, не пострадали.
Гран умел передавать настроение, но в его фотографиях было и другое. Вместе с Пти— Борей они иногда ставили натюрморты из горючих предметов, поджигали их и далее делали снимок за снимком. Затем передвигали, деформировали это пылающее нечто и опять снимали, снимали, снимали. Нужно ли говорить, что зачинщиком этого пожароопасного искусства был Гран?
У Пти-Бориса поставленный натюрморт еще до начала съемки являл собой произведение искусства. Гран же понимал натюрморт как возникшее естественным образом скопление случайных предметов, ни в коем случае специально не организованное. «Съемка непосредственной неотстроенной предметной среды, просто брошенное помещение, в котором что-то лежит» (Александр Китаев).
Отношение к Борису Кудрякову собратьев по объективу было парадоксальное: не считая его собственно фотографом, они тем не менее ценили его и уважали именно как фотографа. Причем это были не какие-нибудь фотографы, а такие, как Борис Смелов и Леонид Богданов!
«Его нельзя назвать фотографом, поскольку для него фотография не была единственным языком общения с миром, а всего лишь одной из его реалий» (Александр Китаев). Но далее тот же Китаев рассказывал:
— Однажды он показал снимок, которым я был потрясен. Он отснял рядовой петербургский двор, но я в нем узнал двор моего детства. Двор был мощен булыжником, по периметру — дровяные сараи, обшарпанные брандмауеры — не могу перечислить всех деталей, создающих ощущение времени, но это был двор моего детства. Я не встречал на фотографиях ничего похожего.
Подходящую для фотографов формулу нашла Ольга Корсунова: «Он был философом от фотографии».
У Грана никогда не было профессиональных «навороченных» фотоаппаратов, он снимал по большей части дешевой простенькой «Сменой», а в свои последние годы, уже после смерти Пти-Бориса, пользовался старинными деревянными камерами. И писал он свои сочинения пером и чернилами, не только не освоив ни компьютера, ни пишущей машинки, но пренебрегая даже авторучкой. Во времени его постоянно тянуло назад, и деструктор, антихудожник становился в нем все сильнее. Казалось, он хотел вернуться к истокам бытия, чтобы «переписать» наш мир заново и совершенно иначе.
«Не социальные условия, не какое-то конкретное общественное устройство — жизнь как таковая не нравится лирическому герою или рассказчику», — писал о Гран-Борисе Михаил Берг. И к нему стоит прислушаться, ибо он посвятил исследованию творчества Кудрякова много времени и чуть ли не половину своей диссертации.
Гран пытался исследовать изнутри то, что у обыкновенного человека вызывает ужас даже на расстоянии — смерть, небытие, первобытный Хаос, Внешнюю Тьму. Его тяга к «истокам антимира» была непреодолима.
Легко догадаться, что Борис не был человеком религиозным. Он не интересовался церковью, но какие-то свои представления о Боге у него были. И весьма непростые, как и отношения с Ним. Гран не богоборец и не еретик — он не хулит и не искажает Бога. И все же он, при всей своей тихости и скромности, наверное, самый радикальный и дерзкий из всех известных мне оппонентов Творца-Демиурга. Грана не устраивает то, что совершенно напрасно сотворил (натворил) Бог, и он, не вступая в полемику, на своем литературном и философском уровне стремится к построению своей, радикально другой реальности, антимира… Грана, скорее всего, следует сопоставлять не с людьми типа Вольтера, а с теми дикими японскими сектантами, которые, голые и грязные, добровольно взяв на себя все грехи мира, роют тоннель под горой Фудзияма, веря, что как только его пророют, наш неправедный мир рухнет, Борис тоже рыл свой тоннель во Внешнюю Тьму, к неукрощенному Хаосу с его невообразимой энергией, которая в наш мир просачивается лишь по капле. Допускаю» что Гран-Борис вполне мог согласиться с Мигелем Серрано, считавшего акт Творения великой катастрофой, а результат ее — нашу Вселенную — «сказкой, рассказанной идиотом».