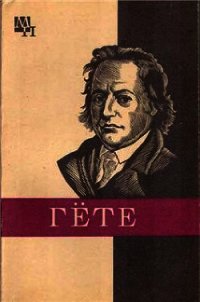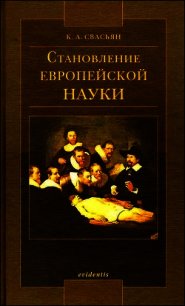Растождествления - Свасьян Карен Араевич (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Зарисовка, что и говорить, не только изумительно живая, но и точная; достаточно уже немного вчитаться в любую из книг философа, чтобы опознать в ней именно эту субъективную импрессию очевидца: некий Давид, облаченный наготою скептицизма и зашибающий кегельбанными шарами многодумных и тучных мыслями Голиафов академической философии. Во всяком случае, философ, никак не укладывающийся в расхожую оценку философа; скорее уж игрок, фокусник, эпатёр идей, некий прожигатель философии, использующий её как клавиатуру для виртуознейших импровизаций на любую — умозрительную или просто бытовую — тему. Вот еще один эпизод — на сей раз в стиле «драмы сатиров»: «По окончании докторского экзамена (у Гуссерля, кажется) он устроил в маленьком городишке немецком пирушку, по немецкому обычаю пригласивши экзаменаторов и друзей; но перепутал и дни, и часы; явившися в ресторан и увидевши убранный, но пустующий стол, он бросился бегать по городу, нанимая извозчика за извозчиком; их всех собравши, уселся на первого; махая рукой, в сопровождении десятка пустых пролеток, летел с шумом и гиком по улицам провинциального городка; профессора, их супруги, доценты с недоумением наблюдали из окон, как перед роем летевших пролеток пустых новоиспеченный герр доктор Шпетт летел в черном цилиндре и белом крахмале; все извозчики города принимали участие в манифестации этой; и принесясь к ресторану, приняли участие в пире вместо герров доцентов и докторов» [92].
Случайные шалости? Скандальные причуды? Но откроем книги, чтобы убедиться в единстве стиля и характера — как в конкретностях жизненной эмпирики, так и в высоких отвлеченностях Эмпирея. Любую, по сути, книгу; вот например, огромная, в 70 страниц большого формата и мелкого шрифта рецензия на книгу В. Ф. Эрна «Философия Джоберти» — настоящее философское избиение во всей гамме приемов, от дубинки и рапиры до щелчков по лбу, и, главное, с постоянным равнением на атмосферу озорства и веселого подмига, как бы намекающая всем своим контекстом, что и она, ну да, того же рода и жанра, что и инцидент с «извозчиками». Или скандальный «Очерк развития русской философии», настолько скандальный, что уже и не дописанный и не перешедший за первую половину XIX века. Очерк, мало сказать, скандальный — просто уникальный в замысле и в исполнении, где историко–философский метод работы органически трансформируется в своего рода философские «Записки охотника», а материал предстает не иначе, как философской дичью, подстреливаемой меткими указаниями на… источники плагиата, так что в конце концов и сам очерк развития выглядит гигантским капканом или, в другом ракурсе, неким химическим реактивом для проявки в письменах отечественной философии симпатических чернил философии немецкой или французской. Словом, всё та же выходка с извозчиками, на сей раз, впрочем, без путаницы и недоразумения… Что ж, оценки так и напрашиваются сами собой. Скептик, нигилист, логикогносеологический декадент, некое подобие философского Оскара Уайльда! Ну, положим, русское начало века едва ли можно было удивить по части декаданса и вообще богемной пиротехники; тут изобиловало и не такое. Скажут, да — но не в философии же, тем паче когда философией занимается не какой–нибудь очередной «мистический анархист», а, с позволения сказать, профессор, ученик и последователь строжайшего из строгих, Гуссерля, родоначальника феноменологии и автора манифеста «Философия как строгая наука». Здесь автоматизм привычного клише срабатывает моментально — мы говорим: или–или. Или строгость, и тогда тяжесть, вескость, солидность, серьезность (ну да, «гримасничающая серьезность совы», по слову Гёте), или легкость, которая непременно ассоциируется с легкомыслием, и, значит, прощай строгость, а вместе с нею и настоящая философия. Очень удобная схема, а главное, очень нелепая применительно к Г. Г. Шпету, с одинаковым блеском выдерживающему экзамен как у «наших», так и у «ваших», как по части строгости, так и по части легкости (легкомыслия, если угодно). Да и что это за ущербная логика, по которой шарму воспрещено быть основательным, а основательности чарующей! — сущая правда то, что философ Шпет вскруживал головы своим слушательницам на курсах Герье, так что многие из них носили на груди медальончики с портретом Густава Густавовича, но сущая же правда и то, что делал он это не в ущерб философии, а — почему бы не сказать прямо? — во славу её, потому и во славу, что философия (да, да, та самая, забытая, дантовская «Госпожа Философия») представала в переливах его отточенного ума уже не пыхтящей и аж взопревшей особой под бременем несения всяческих–де солидностей, а самим танцем и грацией — Мудростью, в которую впору бы влюбиться каждому новичку, вознамерившемуся стать философом, то есть любящим.
Но я как будто уже подошел вплотную к «лица необщему выраженью» Г. Г. Шпета, к загадке его философской родословной. Что ж, фасад легкости мы уже видели, готовые вот–вот заключить к легкомыслию — скептик, с удобством усевшийся в кресле юмовского скептицизма; давайте же заглянем и в интерьер, в зону так называемой «солидности». Фантастическая эрудиция (и отнюдь не только философская), эрудиция, от которой тем более делается боязно, что она никогда не распускается всуе и в угоду досужему тщеславию, но всегда припрятана и, стало быть, внезапна — настоящая эрудиция философского детектива, скрываемая во всем личном и настигающая только «с поличным». Непререкаемая воля к мастерству и профессионализму (ибо «дилетантизм — всегда непристойность» [93]), вплоть до знака равенства между мастерством и самой философией: «Вот подлинно европейская идея софии — мастерство в том, за что берешься, и это — подлинно европейская добродетель». Отсюда резкая неприязнь ко всякого рода псевдофилософиям, синтезирующим демиургический (и, значит, буквально ремесленный, мастерский) разум Запада с ленивой мудростью Востока («Платон, Эсхил, Данте, Шекспир, Гегель — с раскосыми глазами — мотив из Гойи» [94]). Отсюда же позитив собственной установки, и это уже не скептик в юмовском кресле, а феноменолог во всеоружии строжайшего метода, автор фундаментальных книг «Явление и смысл» и «История как проблема логики», книг, содеявших бы в Европе эпоху, но захороненных российскими событиями в кредит будущих… археологических раскопок. Герменевтик, не признающий за философией иной доблести, как доблести видеть: сами вещи, и как они есть. «Нужно углубление в само внешнее, по правилу Леонардо: вглядываться в пыльные или покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры древесных ветвей, в тени, в изгибы и неровности поверхности любой вещи, везде — миры и миры» [95] — вот именно, философия, равняющаяся на Леонардо, а не на «алогическую белиберду […] белибердяев» (еще одно протыкающее «трах» рапиры)!
Говорить о шпетовской философии по существу — задача, никак не умещающаяся в рамках настоящей статьи. Будем надеяться, что в сотрясающей нынче нашу культурную жизнь репатриации русской философии вернутся на свои круги и книги этого оригинальнейшего философа, что сама дидактика возвращения окажется двоякой: не только в памятной линии «что было», но и в назидательной линии «как надо». Как надо философствовать, чтобы в центре внимания были сами вещи, а не призраки промозглых абстракций, чтобы мысль ориентировалась на смысл, а не на капризы избалованного вкуса, чтобы философ представал не специалистом по эксплуатации чужих соображений, а прежде всего и через всё — умницей, во всем профессионально размытом и жизненно четком значении слова, чтобы философа, наконец, не вышучивали здравомыслящие обыватели (у Мольера — припомним — и вовсе пускающие в ход кулаки), а почитали в его лице «знающего», словом, чтобы философия была сообразна самой действительности, а не уходила в решение терминологических кроссвордов, — вот короткий и далеко не полный ракурс дидактики шпетовской философии. Линией «что было» еще займутся исследователи, реставрируя духовный облик одного из самых утонченных мыслителей века; я же подчеркиваю здесь именно линию «как надо», ибо философия в шпетовском понимании — это не только личное творчество философа, но и воспитание мысли, имеющее первостепенную значимость в судьбах становления нации и культуры как таковой. Оттого и столь трудно подвести мысль самого Г. Г. Шпета под привычную философскую рубрику. Сказать, что он феноменолог, — значит, не сказать еще ровным счетом ничего: разве мог этот философский бретёр и весельчак остепениться хотя бы и под сенью столь ценимого им гуссерлианства! Еретик, охочий до парадоксов, он и здесь готов учинить каламбур с «извозчиками», и разве не пахнет уже скандалом утонченнейшее сближение Гуссерля с Платоном, сближение, от которого отнекивался сам Гуссерль, оказавшись, как ни странно, в этом вопросе менее дальновидным в отношении самого себя, чем его ученик! Разве и не вовсе скандальным выглядит поклон гуссерлианца и, значит, почвенника Шпета апологету беспочвенности Льву Шестову, поклон, шокировавший столь многих, но бывший на деле бесстрашным погружением строгого методолога в кромешные кошмары шестовской проблематики и как бы уже предвосхищением не только схожих опытов Макса Шелера, но и странной привязанности к Шестову самого Гуссерля! Да, лишь углубляясь в поверхность, начинаешь понимать, что, в сущности, скрывается за этим эпатирующим скепсисом и нигилизмом, за шокирующей легкостью этого гала–философа: только утонченная тактика и стратегия очищения сознания и культуры. Чисто моцартовская умность озорства или ницшевская «веселая наука», знающая, что ни одна вещь не удастся, если в ней не примет участия излишек веселости. «Поистине вовремя начал философствование молотом классик Ницше!» [96] Ну так вот, понять классика Шпета — нелегкая затея, если уровень понимания и общий ценз образованности (какой угодно) не войдут в сговор с «нечистой совестью» музыки, музыкального восприятия вещей. Пусть не пугает нас экстерьер отсутствием положительных разглагольствований и нередкими гримасами цинизма — нужно, повторим эту формулу, углубление в само внешнее, чтобы распознать за маской скептика и весельчака чудовищную серьезность задачи, неуемную философскую скорбь — «что видно? […] видна ли звезда нового Вифлеема?» [97] — «Никто не знает, как долго и откуда в нем накопляется энергия, которая вдруг производит оглушительный взрыв. Мы живем этими взрывами, — тут истинное начало „нравственного“, — и где не расходуется накопившееся в мелких вспышках, там „взрывы“ поражают наше воображение. Пример — уход Толстого». [98]