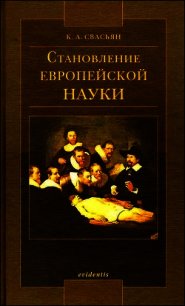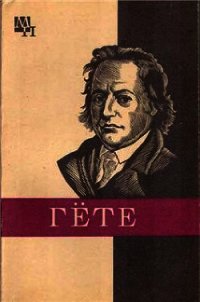…Но еще ночь - Свасьян Карен Араевич (читать книги онлайн бесплатно полные версии .TXT) 📗
Советской (симметричной) фигуре рабочего противостояла асимметричная немецкая. Было бы странно, случись эта кристаллизация не в Германии, а где-нибудь в другом месте, настолько она отвечает той специфичнейшей черте немецкого характера, которую Р. Сафрански в свой книге о романтизме непереводимо назвал «eine deutsche Affäre» (афёра, но не в обязательном русском смысле мошенничества, а во французско-немецкой полисемии шашни, сделки, истории, в которую вляпался). Можно было бы и здесь проследить цепь трансформаций образа, и мы не ошиблись бы, ища эмбриональные формы рабочего уже в «страннике» романтизма, в ницшевском «дионисизме» , в клагесовской душе, защищающей жизнь от духа, в «ч еловеке мужества» Ратенау, в зомбартовской «расточительной» , «сеньоральной» натуре. Знаменательно, что перед окончательным превращением в рабо ч его ряд замирает в образе героя , того самого, с низложения которого когда-то начался и продолжился буржуа . Формула, в 1906 году, была найдена Артуром Мёллером ван ден Бруком: «Мир принадлежитгерою, а неторговцу [7]» — в предзнаменование ближайшей смертельной схватки наций: немецкой и английской. В 1915 году Зомбарт внес её в заглавие своей книги «Торговцы и герои» , состоящей из трех разделов: «Английское торгашество» , «Немецкое геройство» и «Миссия немецкого народа» , причем то обстоятельство, что автор, изобличающий торгашеский дух с неистовством первохристианина, сам был национал-экономом мирового ранга, лишний раз говорит о том, насколько прав цивилизованный мир, когда опасается немцев ( «гуннов» , как их до последнего времени величала королева-мать, а некоторые английские газеты называют и по сей день), и насколько исчерпывающе выразил писатель Эренбург чаяния цивилизованного мира в приснопамятной формуле «Убей немца!» … Переход в рабочего ознаменовал лишь очередной виток в эскалации проблемы. Поскольку победивший торговец естественным образом сохранял прежнюю марку, искать себе новое соответствие с ним приходилось побежденному и униженному герою , и тут уже фигура рабочего — с его яростным послевоенным вламыванием на сцену в России и Европе — напрашивалась сама собой. Со вторым, послевоенным, поколением немецкой консервативной революции марксизм получил более благоприятные шансы на рецепцию [8]; теперь он появился уже не в прежнем обуржуазенном обличии, а в большевистском подлиннике, стягивая в себя и потенцируя в себе мировые энергии и потоки ненависти к победившему упырю. Было ясно, что если Германия проиграла миру войну, и даже не столько на фронтах, сколько уже в послевоенное, версальское и веймарское, время, то более глубинные причины этого лежали не в плоскости цифр и статистик, а в неадекватности сторон, где мировой английской армии противостоял не немецкий рабочий , а, как со сногсшибательной очевидностью оповестил об этом Шпенглер [9], «невидимая английская армия, оставленная Наполеоном после Иены на немецкой земле».
13.
После Компьена и Версаля немецкий рабочий — subjectum agens истории в поисках своего мировоззрения, и то, что Гитлер, соединивший свою судьбу с рабочей партией, предпочел интернациональному марксизму марксизм национальный, было еще одним (наверное, последним) свидетельством политической романтики, испортившей немцам, еще со времен великих Оттонов, всю их историю. Характерны слова, сказанные им Мёллеру в 1922 году после одного заседания в Июньском клубе: «У Вас есть всё, чего мне недостает. Вы создаете духовное оружие для обновления Германии. Я всего лишь бью в барабан и сзываю людей. Давайте же работать вместе» [10]. Он в самом деле нуждался в мировоззрении , которое так и не получил от тех, на кого рассчитывал. В каком-то смысле они, конечно, предали его, найдя его слишком плебейским и высказываясь о нем примерно в том же духе, в каком автор «Капитала» высказывался о рабочих (у Шпенглера это пролетарийцы [11], а Юнгер, во время одной встречи с Геббельсом в тесном кругу, просто вышел из комнаты, пока тот говорил, и отправился в ближайший винный погребок, надеясь, по собственному признанию, глотком хорошего вина сбить дурной привкус услышанного [12]). Как всегда, разница и реакция отторжения особенно болезненно давали о себе знать при внешней почти неразличимости общих черт, как бы в подтверждение слов карамазовского чёрта о решающих всё гомеопатических долях. Время было на редкость запутанным, а в стране мыслителей и более того; на болотной веймарской почве разыгрывалась патовая ситуация между социалистами, желавшими иметь свой марксизм в виде большевизма, и социалистами, желавшими иметь его в виде национал-социализма, так что выбирать приходилось между вредной болезнью и не менее вредным лекарством от нее. Что и немецкий рабочий пал жертвой немецкой романтики вкупе с немецкой метафизикой, об этом свидетельствуют литературно-философские шедевры 30-х гг., прежде всего «Рабочий» Эрнста Юнгера и «Третья имперская фигура» Эрнста Никиша. Значительность этих книг в том, что им удалось стать эпохальными, не сказав, по существу, ничего нового. Обе потенцируют консервативно-революционный жаргон шпенглеровского «Пруссачества и социализма» (1919) и мёллеровского «Третьего Рейха» (1922), причем русская коннекция, достаточно внятная уже у Мёллера, достигает здесь решающей силы. Этот рабочий списан с Троцкого и трудармий, но обезображен до неузнаваемости (особенно у Юнгера) эстетицизмом восприятия; он охотно заговорил бы на языке «Чевенгура» и «Котлована», продолжая зачитываться Риваролем и Леоном Блуа и не понимая (или именно понимая), насколько плачевно всё это могло бы кончиться для него, случись ему однажды пойти на дело. (Вопрос: стал бы Эрнст Юнгер кавалером ордена Pour le Mérite, если бы отправился на войну не безумно-храбрым юнцом, а уже писателем?) Трагизм этого рабочего в смешении жанров; по сути, он был рожден не рабочим, а литературным героем, и стать рабочим его вынудила именно его литературность; когда потом жизнь повернулась к нему своей рабочей стороной, в которой не было уже ничего от литературы, он не мог остановиться и продолжал оставаться на посту, auf verlorenem Posten: из верности одной немецкой Affäre… Никиш, несгибаемый национал-большевик, в послевоенном будущем гражданин ГДР и некоторое время член СЕПГ, пошел даже дальше, издав в 1932 году брошюру «Гитлер — немецкая погибель», в которой ухитрился продемонстрировать свое родство с тем, от чего так яростно предостерегал.
14.
Потом — в перекроенном ялтинско-потсдамском мире, после заката Европы и встречи на Эльбе — снова пробил час буржуа . Another day, another dollar . Это была настоящая смена парадигм с переходом на новый режим мыслей, ощущений и инстинктов. А главное, на новое американское время, потому что солнце, закатившееся в Европе, в одночасье взошло в Америке. Беглые пуритане, некогда (с XVII века) дезертиры Европы, возвращались на свою историческую родину не только как победители, но и как наставники in rebus spiritualibus; Европе, погрязшей в насилии и тоталитаризме, предстояло свободно и полюбовно выбирать свое американское будущее.
В сложной технологии выбора дело шло, прежде всего, о потемкинском образце. Хотя среди стран-победительниц не было ни одной европейской, так что, во избежание неловкости, пришлось спешно принаряживать Францию к красивой роли победительницы, ставка была сделана не на Францию, а — после нюрнбергских казней и тотального перевоспитания — на Германию. Послевоенное «немецкое чудо» (при абсолютном табуировании чуда предвоенного) и стало первой пиарной акцией и легендированием набирающего темп либерализма с его бесхитростной расстановкой акцентов: герой хорош, когда в съемочном павильоне, рабочий , когда растворен в среднем классе социальной стратификации, а будущее, когда принадлежит не герою и не рабочему , а клерку . Наконец-то, гунну выпала милость быть на правильной стороне. На волне «немецкого чуда» неистребимый бюргер вновь занял свое ведущее место, доказав, что если можно еще обходиться без многого, то обойтись без него не под силу решительно никому. Что́ он, впрочем, и на этот раз упустил из виду, так это свою врожденную патологию: фобии, депрессии, неполноценности, почти на дающие о себе знать в миги неблагополучия, когда ему приходилось бороться за жизнь, и делающиеся невыносимыми, стоило ему только начать снимать с жизни сливки. От этой диалектики, по которой ему хорошо, когда плохо, и плохо, когда хорошо, его не спасали ни длительное воздержание от способности понимать что-либо, ни домашний психоаналитик. Так случилось и на этот раз, и тогда, в момент наивысшей prosperity, когда градусник самоненависти снова стал зашкаливать за допустимую отметку, он еще раз собрался с силами и выдумал себе нового обидчика и наследника.