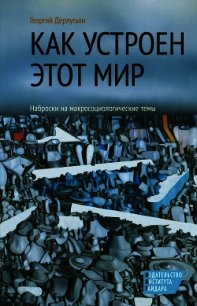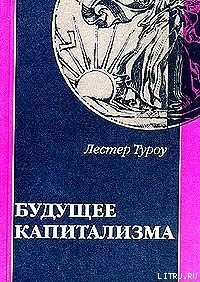Есть ли будущее у капитализма? - Дерлугьян Георгий (книги бесплатно .TXT, .FB2) 📗
В 1970-х добрые времена внезапно закончились. Крэг Калхун напоминает нам, что изменение мирового политического климата началось вовсе не с восстания правых, а с восстания молодых «новых левых». Именно студенческие бунтари и инакомыслящие первыми бросили вызов ханжеским и циничным сделкам времен холодной войны. «Новые левые» требовали еще лучших времен, но только без официального лицемерия и склеротического бюрократизма. Конечно, это было правдой. Тогдашние истеблишменты везде — на Западе, Востоке и Юге — были полны бюрократической патологии и деспотизма, маскируемых лицемерием. Заметим, однако, что дружно ненавидимый истеблишмент 1970-х сам представлял собой позднейший этап эволюции разнообразных политических режимов, имевших истоки в модернизационных, социал-реформистских, антиколониальных и революционных переворотах предшествующей героической эпохи. Бюрократизм вытекал из вырождения «старых левых» после десятилетий нахождения во власти. Несмотря на громогласно провозглашаемые идеологические различия, старшее поколение, выросшее в военный период, было едино в глубокой вере в то, что американцы называли «триадой большого правительства, больших профсоюзов и большого бизнеса» (у которых в СССР находятся свои организационные эквиваленты в виде промышленных министерств времен сталинской индустриализации). Все эти политические и экономические структуры получили власть и легитимность благодаря массовому распространению современного образования, государственного жилья, социального обеспечения, здравоохранения, пожизненной занятости в промышленности и не в последнюю очередь комфортных карьер для среднего класса в бюрократических, военных и профессиональных иерархиях.
Конечно, многие обездоленные и «забытые» группы людей в разных странах оказались исключены из этого иерархически организованного процветания. Как правило, в развитых странах это были расовые, религиозные, гендерные и эмигрантские меньшинства, а в советских республиках — представители нерусских национальностей и субпролетариат, в третьем мире — массы обитателей трущоб, перебравшихся в города из сельской местности. Но все эти маргинальные группы редко заявляли о себе в сфере политики. Ситуация, однако, изменилась в 1960-х годах с появлением студенческих активистов и диссидентов из числа интеллигенции, несущих в массы новые формы самосознания и «идентичности» вместе с идеологиями бунта против «системы».
Антисистемные движения «новых левых» приобрели массовую силу там, где они смогли опереться (порою не осознавая этого) на скрытую социальную напряженность, порождаемую локальными причинами самого разнообразного происхождения: индустриализацией в одних местах и деиндустриализацией в других, демографическим переходом от прежде крестьянских к современному типу воспроизводства, изменением социальной географии конкретных городских кварталов, травмированной национальной памятью, даже сектантским религиозным рвением или фракционными обидами местных элит, которые были отметены в сторону модернистскими планировщиками новых городов, промышленных гигантов и государств. Отбросив прежние модели революции, молодые борцы с авторитаризмом избегали жесткой организованности, предпочитали ненасильственные тактики, требовали свободы от бюрократических регламентаций и признания прав самых разнообразных статусных групп (то, что стали называть «политикой идентичностей»). Это означало отход от марксистской идеи об экономических классах как основе общественной борьбы. Видимость общих целей у весьма несхожих протестов 1960-х годов связана лишь с повсеместным присутствием бюрократического истеблишмента, обычно возглавляемого и символизируемого отеческой фигурой Великого вождя, и Большого босса. На короткое время такие ситуации вызывали накаленные поляризованные противостояния типа «мы против них», захватывавшие публичные пространства городских площадей и студенческих кварталов. Вспомните события 1968 года на Западе, многомиллионные антишахские марши в Иране в 1978–1979 годах, общенациональные забастовки 1980 года в Польше, демократические митинги, прокатившиеся в 1989 году по всем странам советского блока, и, если взять ближе к нашим дням, городское восстание, свергнувшее Большого босса в Египте в 2011 году.
Участники, комментаторы и симпатизирующие исследователи тех бурных событий предпочитали яркие, захватывающие дух толпы протестующих и почти всегда брали сторону борцов за свободу. Скучные, серые и склонные к кабинетной тайне бюрократы истеблишмента вызывали куда меньше интереса и ноль симпатий. Но такая эмоциональная односторонность обедняет анализ. Большинство исследователей протестов игнорируют то, что во время протестов делали (или не делали) оборонявшиеся от восставшего народа правители. В большинстве же случаев бюрократический истеблишмент проявлял странное нежелание прибегать к террористическим репрессиям. А ведь это должно бы показаться удивительным, учитывая, что как «капиталистические свиньи», так и «коммунистические аппаратчики» вполне располагали спецсредствами и персоналом для применения массового насилия на уровне межвоенных «тоталитарных» десятилетий. Конечно, государственный террор еще не исчез в бурную эпоху 1968 года. Рецидивы межвоенного европейского фашизма наблюдались в Испании, Греции и Турции. Многие тысячи людей подверглись пыткам или были в Южной Африке времен апартеида, во время длящихся годами «чрезвычайных положений» в арабских и латиноамериканских диктатурах. Экономические чудеса не должны заслонять внутреннее насилие, творившееся властями стран Восточной Азии, как коммунистических, так и антикоммунистических, будь то в коммунистическом Китае либо в Южной Корее эпохи военной диктатуры. Государственный террор в ответ на активизм «новых левых» приобретал, возможно, собственные причины и особенности в каждом конкретном случае. Тем не менее заметим, насколько репрессии локализованы в полупериферийных странах, где государство было неуверенным в себе, внутренне слабым и во многих случаях лишь недавно возникшим. Ни на Западе, ни в советском блоке мы уже ничего подобного не наблюдали.
Контраст в реакциях государств на протесты 1968 года подсказывает важную гипотезу. В первом и втором мире — хотя не в Латинской Америке и не в Азии — политический истеблишмент к 1970-м годам стал всецело бюрократическим. Его институты и управляющий персонал сформировались в эпоху крупномасштабной мобилизации военного времени и были дисциплинированы необходимостью поддерживать сверхдержавные балансы холодной войны. Старшее поколение бюрократий и ведущих капиталистических и коммунистических государств помнило цену колоссальных просчетов своих предшественников в 1914,1929 и в прочие опасные годы. Руководство на западе и на востоке Европы еще обладало коллективной памятью о том, чем обернулось заигрывание с фашистскими боевиками в межвоенный период либо сталинские чистки рядов партии. Да, одну из причин мирного исхода 1968 года следует искать в принципах ненасилия и гражданской тактике «новых левых». Боевитое, наступательное ненасилие, как ни парадоксально прозвучит это словосочетание, в противоположность революционным «красным гвардиям» и партизанским отрядам «старых левых» лишало органы госбезопасности вооруженных противников и мишеней для насильственной конфронтации. (Появление ультралевых террористов в 1970-е было как раз следствием распада и деморализации «новых левых» движений.) Но напрашивается и гипотеза, с другой стороны. Бюрократы и политики, действующие в высоко институализированной среде, вырабатывают негероический бюрократический «габитус», привычку к осторожности и склонность к избеганию слишком явных конфликтов. Такого рода «постмакиавеллианские» бюрократические правители (позвольте и нам поиграть в термины с приставкой пост-) предпочитают полагаться на обычную бюрократическую тактику проволочек. Как ни странно, здесь мы обнаруживаем важную и даже вселяющую надежду перспективу. Для обеспечения мирного будущего исхода в случае экономического либо экологического кризиса становится очень важным изучение условий, при которых в современных бюрократических государствах возникает или не возникает политическое насилие, причем с любой из сторон. Мы все сходимся во мнении, что ненасильственные революции не только морально предпочтительнее, но и политически надежнее в своих последствиях, хотя мы и не настолько благодушны, чтобы предполагать, будто одними моральными проповедями можно предотвратить насилие в моменты общественных кризисов и конфронтаций.