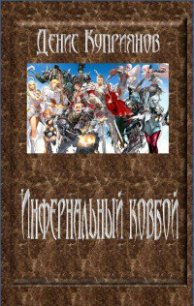Русские Вопросы 1997-2005 (Программа радио Свобода) - Парамонов Борис Михайлович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
И вот тут я должен отметить самую главную черту в писательском умении Эммы Герштейн. Она блестяще использовала свои профессиональные навыки в архивной работе. Ее портреты людей документированы. Этот прием работает необыкновенно эффективно и эффектно. Так сделан ее Мандельштам. Сначала - собственные воспоминания, которые могут показаться канонизаторам неадекватными, а потом - второй раздел под названием "Мандельштам в Воронеже", где опубликованы письма Сергея Рудакова, жившего в воронежской ссылке одновременно с поэтом, ежедневно его видевшего и ежедневно об этих встречах писавшего жене в Ленинград. Совпадение портрета и документа - стопроцентное. Эмма Григорьевна попадет в яблочко, глядит Вильгельмом Теллем. При этом ощущается отнесение к литературной традиции, уже имеющейся, - Розанов, конечно, любивший делать свои вещи на письмах других людей. Впрочем, Розанов дал не традицию, а прецедент.
Что остается добавить к этому редкому зрелищу мастерства? Разве то, что Эмма Герштейн заодно реабилитировала Рудакова, которого очень несправедливо, можно даже сказать, клеветнически изобразила во второй книге Надежда Мандельштам. Это большая тема о единстве эстетического и этического в понимании Эммы Герштейн - тема, к которой я еще вернусь.
Пока коснусь того самого - самого сенсационного, по обычным меркам, сюжета, уже упоминавшегося, - о Надежде Мандельштам. Знаменитая мемуаристка предстала по-новому, нам дан совершенно не ожидавшийся ее образ. Ничего древнегреческого, никаких стенаний на пепелище разрушенной Трои. Не была она женой Приама, эту роль ей навязали любезные большевики. Молодая Надежда Мандельштам была крайне интересной личностью; сказать по-нынешнему, чем-то вроде хиппи, сохранявшей, однако, связь с предшествовавшей революции эпохой, называемой не точно - а может быть, и точно - эпохой декаданса. Мы узнаем, например, что культовой ее книгой была "Тридцать три урода" Зиновьевой-Аннибал. Ей бы не в пореволюционной Москве жить, а в Латинском квартале или нью-йоркском Гринич Вилледж. Вот нечаянная заслуга большевиков: они Россию подморозили, и многие неустойчивые души в результате этой процедуры обратились в античные статуи.
Приведу одну из характеристик, данных Эммой Герштейн Надежде Мандельштам:
...она могла заговорить кого угодно. Сила внушения была ее главным талантом. Это было доминантой в ее характере, сотканном из бешеного темперамента, возбудимости, иногда доходящей до кликушества, непререкаемого своеволия и, как ни странно, беспечного легкомыслия.
Такие характеристики не нравятся канонизаторам, конечно. Но это всегда заслуга исследователя - суметь деканонизировать предмет, то есть сделать его снова живым. Такие живые лица населяют мемуары Эммы Герштейн.
Теперь скажу о сюжете, меня наиболее, я бы сказал, потрясшим, тем более, что я встретил его впервые, не видел в предшествовавших выходу книги журнальных публикациях. Это ее трактовка мандельштамовского дела, связанного со знаменитым стихотворением о Сталине.
Эмма Герштейн объяснила, и на мой взгляд правильно, почему Сталин не сгноил поэта сразу же и за крамольные стихи назначил исключительно мягкий приговор - три года воронежской ссылки. Она говорит, что Сталин увидел в стихах Мандельштама некую политическую рекомендацию. Мемуаристка предлагает задуматься над датой происшествия: это был 34-й год. Только что прошел 17 партсъезд, пресловутый съезд победителей, на котором Сталин ощутил резко возросшую оппозицию. Снаружи все было гладко, но позднее стало известно, что на тайном голосовании при выборе Центрального Комитета Сталин получил на много голосов меньше, чем Киров, и ему, Сталину, уже на пленуме нового ЦК, когда избиралось Политбюро, был сделан реприманд - чуть ли не самим Кировым, хотя его снова избрали генсеком. Опасность создалась реальная - тенденция, крайне нежелательная для Сталина обозначилась. Нужно было принять радикальное решение, в плане ликвидации так называемой внутрипартийной демократии. Мемуаристка напоминает нам, что до сих пор Сталину приходилось физически расправляться только с открытыми врагами, своих пока еще не били. И вот тут подоспело стихотворение Мандельштама, наведшее вождя на соответствующие мысли. Далее цитирую Эмму Герштейн:
Весь этот год, закончившийся убийством Кирова, Сталин был озабочен укреплением своей власти и расправой с врагами из числа высших органов партии. На этом фоне одна строфа из крамольного стихотворения Мандельштама должна была ласкать слух затаившего злобу Сталина: "А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет".
Поэт как бы давал ему индульгенцию на будущие, еще не оформленные в сознании тирана преступления! Такие слова можно повторять в укромных углах кремлевских палат, вытаскивая из этого "сброда" то одного, то другого из "тонкошеих вождей", и натравливать их друг на друга. Видимо, это Мандельштам большой мастер. Надо о нем узнать... Глубже заглядывать в душу и замыслы злодея я не берусь. Но всем известные события 1937-39 годов говорят сами за себя.
Ничего себе "глубже не берусь"! Глубже и нельзя. Трактовка сногсшибательная: Мандельштам как невольный инициатор внутрипартийного террора. Самое интересное, что этому как-то веришь - так вот оно и бывает в жизни нашей: этакое толстовское хаотическое сцепление причин и следствий, насморк Наполеона и нос Клеопатры. Но можно и еще одного великого автора вспомнить - Шекспира. Правильно сказано, что шекспировский масштаб - какой-нибудь десяток трупов в жесточайшей из трагедий - не идет к Сталину, мастеру массового террора, что это явление, массовый террор, вообще только новейшую, идеологизированную историю отличает. Но это, так сказать, объективный критерий; субъективно же, в душе злодея действовали механизмы, моделированные и вскрытые Шекспиром. Я настаиваю: в этой трактовке Эмма Григорьевна Герштейн продемонстрировала прямо-таки шекспировское понимание подобных сюжетов.
Наиболее каноническим в ее мемуарах мне показался раздел об Ахматовой; тут ничего принципиально нового мы не узнаем: знакомый образ величественной королевы в изгнании. Но зато очень весомо Эмма Герштейн написала об отношениях Ахматовой с сыном Львом Гумилевым. И самое интересное опять же - письма Гумилева к автору из лагеря. Должен тут признаться в ереси: я не поклонник теоретических построений Льва Николаевича Гумилева, его персонального варианта достаточно спорного евразийства, но в этих письмах он предстает человеком, показавшимся мне куда интереснее его знаменитой матери. Это моя идеосинкразия: люблю ересь и еретиков, люблю, когда ради красного словца не пожалеют родную мать. И в распре Гумилева с матерью я готов был стать на сторону сына. Я равнодушен к стихам Ахматовой, и - при полном понимании несравнимости предметов - письма Льва Гумилева все же показались мне более интересными в стилистическом плане, чем ее стихи.