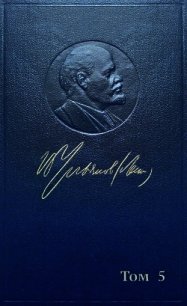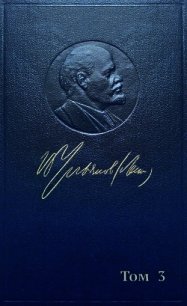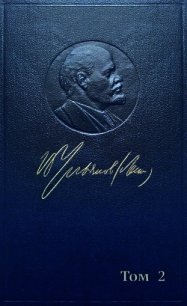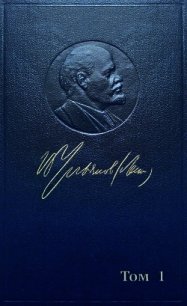Полное собрание сочинений. Том 4. 1898 — апрель 1901 - Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (е книги txt) 📗
Вот господину околоточному надзирателю… ну, как же не оказать ему снисхождения! Он встретил привезенного Воздухова, он, очевидно, велел направить его не в арестантскую, а сначала – для обучения – в солдатскую, он участвовал в избиении и кулаками своими и книгой (должно быть, сводом законов), он распоряжался уничтожением следов преступления (смыть кровь), он рапортовал ночью 20 апреля вернувшемуся приставу этой части, Муханову, что «во вверенной ему части все обстоит благополучно» (буквально!), – но он ничего не имеет общего с убийцами, он виноват только в оскорблении действием, только в простой обиде действием, наказуемой арестом. Вполне естественно, что этот невиновный в убийстве джентльмен, г. Панов, и в настоящее время служит в полиции, занимая должность полицейского урядника. Г-н Панов только перенес свою полезную распорядительную деятельность по «обучению» простонародья из города в деревню. Скажите по совести, читатель, может ли урядник Панов иначе понять приговор палаты, как совет: – вперед скрывать получше следы преступления, «обучать» так, чтобы следов не было. Ты велел смыть кровь с лица умирающего, – это очень хорошо, но ты допустил Воздухову умереть, – это, братец, неосмотрительно; вперед будь осторожнее и крепко заруби себе на носу первую и последнюю заповедь русского Держиморды: «бей, но не до смерти!».
С общечеловеческой точки зрения приговор палаты над Пановым есть прямая насмешка над правосудием; он показывает чисто холуйское стремление свалить всю вину на низших полицейских служителей и выгородить их непосредственного начальника, с ведома, одобрения и при участии которого происходило зверское истязание. С юридической же точки зрения, этот приговор – образец той казуистики, на которую способны судьи-чиновники, и сами-то не очень далеко ушедшие от околоточного. Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли – говорят дипломаты. Закон дан для того, чтобы извращать понятие вины и ответственности – могут сказать наши юристы. Какое, в самом деле, тончайшее судейское искусство нужно для того, чтобы подвести участие в истязании под простую обиду действием! Мастеровой, который утром 20 апреля сшиб, может быть, шапку с Воздухова, виноват, оказывается, в том же самом проступке – и даже еще слабее: не проступке, а «нарушении», – как и Панов. Даже за простое участие в драке (а не в избиении беспомощного человека), если кому-либо причинена смерть, полагается более строгое наказание, чем то, которому подвергли околоточного. Судейские крючкотворы воспользовались, во-первых, тем, что за истязание при отправлении должности закон назначает несколько наказаний, предоставляя судье, смотря по обстоятельствам дела, выбор между тюрьмой от 2-х месяцев и ссылкой в Сибирь на житье. Не стеснять судью чрезмерно формальными определениями, предоставлять ему известный простор – это, конечно, очень разумное правило, и за это не раз уже хвалили русское законодательство и подчеркивали его либерализм наши профессора уголовного права. Они забывали только при этом ту мелочь, что для применения разумных постановлений нужны судьи, не сведенные на положение простых чиновников, нужно участие представителей общества в суде и общественного мнения – в обсуждении дела. А во-вторых, на помощь суду пришел здесь товарищ прокурора, который отказался от обвинения Панова (и Ольховина) в истязании и жестокостях и просил подвергнуть их наказанию только за причинение обиды. Товарищ прокурора сослался в свою очередь на заключение экспертов, отвергших особую мучительность и продолжительность нанесенных Пановым побоев. Юридический софизм, как видите, не отличается особой замысловатостью: так как Панов бил меньше остальных, то можно сказать, что его побои не были особо мучительны; а если они не были особо мучительны, то можно заключить, что они не относились к «истязаниям и жестокостям», а если они не относились к истязаниям и жестокостям, то значит это было простое оскорбление действием. Все улаживается к общему удовольствию, и г. Панов остается в рядах блюстителей порядка и благочиния [159]… Мы затронули сейчас вопрос об участии в суде представителей общества и роли общественного мнения. Этот вопрос вообще прекрасно иллюстрируется данным делом. Прежде всего: почему разбирал дело не суд присяжных, а суд коронных судей с сословными представителями? Потому, что правительство Александра III, вступив в беспощадную борьбу со всеми и всяческими стремлениями общества к свободе и самостоятельности, очень скоро признало опасным суд присяжных. Реакционная печать объявила суд присяжных «судом улицы» и открыла против него травлю, которая, к слову сказать, продолжается и по сю пору. Правительство приняло реакционную программу: победив революционное движение 70-х годов, оно беззастенчиво объявило представителям общества, что считает их «улицей», чернью, которая не смеет вмешиваться не только в законодательство, но и в управление государством, которая должна быть изгнана из святилища, где над русскими обывателями чинят суд и расправу – по методу господ Пановых. В 1887 году был издан закон, по которому дела о преступлениях, совершенных должностными лицами и против должностных лиц, изъяты из ведения суда присяжных и переданы суду коронных судей с сословными представителями. Как известно, эти сословные представители, слитые в одну коллегию с судьями-чиновниками, представляют из себя безгласных статистов, играют жалкую роль понятых, рукоприкладствующих то, что угодно будет постановить чиновникам судебного ведомства. Это – один из тех законов, которые длинной вереницей тянутся через всю новейшую реакционную эпоху русской истории, объединенные одним общим стремлением: восстановить «твердую власть». Давлением обстоятельств власть вынуждена была во второй половине XIX века прийти в соприкосновение с «улицей», а состав этой улицы изменялся с поразительной быстротой, и темных обывателей заменяли граждане, начинающие сознавать свои права, способные даже выставлять борцов за права. И, почувствовав это, власть с ужасом отпрянула назад и делает теперь судорожные усилия оградить себя китайской стеной, замуроваться в крепость, недоступную ни для каких проявлений общественной самодеятельности… Но я несколько отклонился от своей темы.
Итак, благодаря реакционному закону, улица была устранена от суда над представителями власти. Чиновников судили чиновники. Это сказалось не только на приговоре, но и на всем характере предварительного и судебного следствия. Суд улицы ценен именно тем, что он вносит живую струю в тот дух канцелярского формализма, которым насквозь пропитаны наши правительственные учреждения. Улица интересуется не только тем, даже не столько тем, – обидой, побоями, или истязаниями будет признано данное деяние, какой род и вид наказания будет за него назначен, сколько тем, чтобы до корня вскрыть и публично осветить все общественно-политические нити преступления и его значение, чтобы вынести из суда уроки общественной морали и практической политики. Улица хочет видеть в суде не «присутственное место», в котором приказные люди применяют соответственные статьи Уложения о наказаниях к тем или другим отдельным случаям, – а публичное учреждение, вскрывающее язвы современного строя и дающее материал для его критики, а следовательно, и для его исправления. Улица своим чутьем, под давлением практики общественной жизни и роста политического сознания, доходит до той истины, до которой с таким трудом и с такой робостью добирается сквозь свои схоластические путы наша официально-профессорская юриспруденция: именно, что в борьбе с преступлением неизмеримо большее значение, чем применение отдельных наказаний, имеет изменение общественных и политических учреждений. По этой причине и ненавидят – да и не могут не ненавидеть – суд улицы реакционные публицисты и реакционное правительство. По этой причине сужение компетенции суда присяжных и ограничение гласности тянутся красной нитью через всю пореформенную историю России, причем реакционный характер «пореформенной» эпохи обнаруживается на другой же день после вступления в силу закона 1864 года, преобразовавшего нашу «судебную часть» [160]. И именно на данном деле с особенной силой сказался недостаток «суда улицы». Кто мог бы на этом суде заинтересоваться общественной стороной дела и постараться выставить ее со всей выпуклостью? Прокурор? Чиновник, имеющий ближайшее отношение к полиции, – разделяющий ответственность за содержание арестантов и обращение с ними, – в некоторых случаях даже начальник полиции? Мы видели, что товарищ прокурора даже отказался от обвинения Панова в истязании. Гражданский истец, если бы жена убитого, выступавшая на суде свидетельницей Воздухова, предъявила гражданский иск к убийцам? Но где же было ей, простой бабе, знать, что существует какой-то гражданский иск в уголовном суде? Да если бы она и знала это, в состоянии ли была бы она нанять адвоката? Да если бы и была в состоянии, нашелся ли бы адвокат, который мог бы и захотел бы обратить общественное внимание на разоблачаемые этим убийством порядки? Да если бы и нашелся такой адвокат, могли ли бы поддержать в нем «гражданский пыл» такие «делегаты» общества, как сословные представители? Вот волостной старшина – я имею в виду провинциальный суд – конфузящийся своего деревенского костюма, не знающий, куда деть свои смазные сапоги и свои мужицкие руки, пугливо вскидывающий глаза на его превосходительство председателя палаты, сидящего за одним столом с ним. Вот городской голова, толстый купчина, тяжело дышащий в непривычном для него мундире, с цепью на шее, старающийся подражать своему соседу, предводителю дворянства, барину в дворянском мундире, с холеной наружностью, с аристократическими манерами. А рядом – судьи, прошедшие всю длинную школу чиновничьей лямки, настоящие дьяки в приказах поседелые, полные сознания важности выпавшей им задачи: судить представителей власти, которых недостоин судить суд улицы. Не отбила ли бы эта обстановка охоту говорить у самого красноречивого адвоката, не напомнила ли бы она ему старинное изречение: «не мечите бисера перед…»?