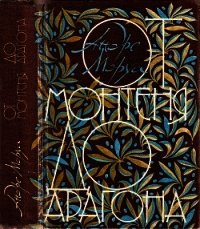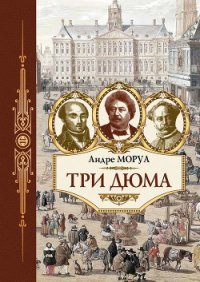Литературные портреты - Моруа Андре (серии книг читать бесплатно txt) 📗
Чего же он добивается, чего он с таким трудом ищет? Флобер сам рассказал нам об этом. Он хочет освободить фразу «от ее беловатого жира и оставить в ней одни только мускулы». Для этого следует убрать все авторские комментарии, все абстрактные рассуждения и сохранить одни только впечатления или слова персонажей. Перечитайте описание прогулки Эммы и Родольфа, которую они совершают верхом: "Храпели лошади. Поскрипывали кожаные седла... Небо разъяснилось. Листья деревьев были неподвижны.
Родольф и Эмма проезжали просторные поляны, заросшие цветущим вереском. Эти лиловые ковры сменялись лесными дебрями, то серыми, то бурыми, то золотистыми, в зависимости от цвета листвы. Где-то под кустами слышался шорох крыльев, хрипло и нежно каркали вороны, взлетавшие на дубы... Родольф и Эмма спешились..." [Г.Флобер, «Госпожа Бовари»]. Пруст в своей работе о стиле Флобера великолепно сравнил страницы его прозы с длинным движущимся тротуаром, он отметил долгое, чуть монотонное и томительное нанизывание глаголов несовершенного вида, которое внезапно обрывается вторжением глагола совершенного вида («Родольф и Эмма спешились...»), это перебивает ритм фразы и указывает на новое действие. Весьма новаторским был прием введения цепи глаголов прошедшего времени для передачи слов и намерений персонажей; это же можно сказать и о том великолепном диссонансе, который лирическая фраза внезапно вносила в длинную вереницу обыденных предложений. Перечеркивая и переписывая текст, Флобер в конечном счете намеренно разбивал фразу, придавая ей своеобразную неуклюжесть. Слог, над которым писатель так тщательно работал, обладает плавностью только в поэтических концовках, завершающих долгий период. Но чаще слог этот кажется шероховатым, обрывистым.
Дело в том, что требовательный художник слишком часто перемещал с места на место составные части фразы. «Слог человека, ворочающего глыбы», – сказал Пруст. Вот пример этого слога: «Какая-то неодолимая сила влекла ее к нему. Но вот однажды, когда она пришла к нему неожиданно, он досадливо поморщился...» И на следующей странице: «Так податной инспектор пытался объяснить напавший на него страх. Но дело было в том, что приказ префекта разрешал охоту на уток только с лодки, и, таким образом, блюститель законов г-н Бине сам же их и нарушал. Вот почему податному инспектору все время казалось, что идет полевой сторож...» [Г.Флобер, «Госпожа Бовари»]. Да, это слог человека, ворочающего глыбы, нагромождающего камни. Образ Пруста верен и хорош. И сколько грамматических особенностей, отмеченных Прустом в языке Флобера, вошли в употребление! Укажу для примера на союз "и", которым я начал предыдущее предложение. Это флоберовское "и", в отличие от того, что говорит Пруст, часто служит союзом, которым заканчивается перечисление, но в начале описания оно служит также «указанием на то, что начинается другая часть картины, что отхлынувшая было волна вновь набирает силу». Я знавал хороших судей, и в их числе Алена, которым не нравился стиль Флобера, и я признаю, что в непосредственности Стендаля больше прелести. Флобер, напоминающий манеру Гаварни или Анри Монье, Флобер времен «Гарсона», Флобер, скажем, заключительной фразы «Госпожи Бовари» – «Недавно он получил орден Почетного легиона» [Г.Флобер, «Госпожа Бовари»] – мне тоже не по душе, но я люблю благородную грусть многих его страниц, я люблю также не совсем складные, почти наивные обороты, такие, как, например, следующая фраза: «Она воскликнула: „О Боже!“, вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!» [Г.Флобер, «Госпожа Бовари»]. VI Следует сказать несколько слов о пресловутом судебном процессе. Хотя это может показаться нелепым. Флобер вслед за появлением романа «Госпожа Бовари» в «Ревю де Пари» в 1856 году был привлечен к ответственности за оскорбление общественной морали и религии. В действительности, возбуждая дело против писателя, правительство стремилось нанести удар по журналу, и дело это носило скорее политический, а не литературный характер. Книга его была «нравственной, архинравственной и заслуживала премии Монтиона». Все литераторы были на стороне Флобера и защищали его (правда, осторожно), ибо понимали, что дело касается не одного только Флобера, но писателей вообще. Влиятельные женщины, в частности императрица, ходатайствовали за автора. Однако император заявил: «Оставьте меня в покое!», и делу был дан ход. Флобер писал доктору Жюлю Клоке; «Мой дорогой друг, сообщаю вам, что завтра, 24 января, я буду иметь честь сесть на скамью для мошенников в шестой палате суда исправительной полиции. Слушание дела начнется в десять часов утра; дамы допускаются; костюм, разумеется, должен быть безукоризненным и парадным... Я не рассчитываю на правосудие. Я буду осужден, и наказание, возможно, изберут самое строгое, – славная награда за мои труды, достойное поощрение для литературы...» Обвинительная речь на суде изобиловала восклицательными знаками: «Любовники доходят до предела сладострастия!» По словам прокурора, исполненные похоти картины оскорбляют общественную мораль. Он находил двусмысленными слова о молодожене, который наутро после свадьбы выглядел так, будто «это он утратил невинность», и возмущался фразой, где говорилось, что Шарль был «весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи» и, «радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей» [Г.Флобер, «Госпожа Бовари»]. «Автор приложил множество стараний, – возмущался прокурор, – он употребил все доступные ему красоты слова, чтобы живописать эту женщину. Попытался ли он описать при этом ее душу? Отнюдь. Может быть, он описал ее сердце? Вовсе нет. Ее ум? Увы, нет. Тогда, может быть, ее физическую привлекательность? Тоже нет. О, я хорошо знаю, что портрет госпожи Бовари после супружеской измены относится к числу блистательных портретов; однако портрет этот прежде всего дышит сладострастием, позы, которые она принимает, будят желание, а красота ее – красота вызывающая...» Какая странная и комическая обвинительная речь! Автору прежде всего ставили в вину четыре отрывка. Один относится к любви Родольфа: «Что прельстило Родольфа и толкнуло его на роман с госпожой Бовари? То, что она слегка покачивалась и при колебаниях ее стана колокол платья местами опадал». Второй отрывок – сцена причащения. Третий отрывок – тот, где говорится о любовном романе Эммы и Леона, в особенности описание их прогулки в карете по Руану: тут «ничего не описано, но все подразумевается». И наконец, четвертый отрывок – это сцена смерти Эммы, которая, по словам прокурора, являла собой «чудовищное смешение священного и сладострастного». Защитник Флобера, мэтр Сенар, оказался в выгодном положении. Он набросал великолепный портрет отца Флобера – хирурга, пользовавшегося уважением жителей провинции: "Высокое имя и возвышенные воспоминания обязывают... Господин Гюстав Флобер – человек серьезного нрава, предрасположенный по природе своей к занятиям важным, к предметам скорее печальным. Он совсем не тот человек, каким хотел его представить товарищ прокурора, надергавший в разных местах книги пятнадцать или двадцать строк, будто бы свидетельствующих о том, что автор тяготеет к сладострастным картинам... В «Госпоже Бовари» описываются супружеские измены, но ведь они – источник непрестанных мук, сожалений и угрызений совести для героини. Карета в Руане? Мериме в «Двойной ошибке» рассказал о подобной же сцене, происходившей в почтовой карете. Эмма сбрасывает с себя одежды? Но Флобер даже не описывает наготу своей героини, как это делали Шенье, Мюссе, все поэты вообще. Сладострастные картины? Флобер, рисуя их, имел перед глазами книгу, которую он перелистывает днем и ночью: это речь Боссюэ «О запретных удовольствиях». Стало быть, надо запретить и Боссюэ? Разумеется, никто его запрещать не собирается; кстати, и в книгах Монтескье и Руссо содержатся отрывки гораздо более вольные, нежели в «Госпоже Бавари». Приговор являл собою блестящий образец компромисса. Суд порицал книгу, однако, «принимая во внимание, что произведение, судя по всему, потребовало от писателя долгого и тщательного труда... что отмеченные отрывки, хотя и заслуживают всяческого порицания, занимают весьма небольшое место по сравнению с размерами произведения в целом... принимая во внимание, что Гюстав Флобер заявляет о своем уважении к нравственности и ко всему, что касается религиозной морали, что его книга, по всей видимости, в отличие от иных произведений, не была написана с единственной целью потворствовать плотским страстям, угождать духу распущенности и разврата, а также осмеивать понятия, которые должны быть окружены всеобщим уважением, что его вина состоит только в том, что он порою упускал из виду правила, какие не должен преступать ни один уважающий себя писатель, ибо ему надлежит помнить, что литература, как всякое искусство, если она хочет принести пользу, в чем и состоит ее истинное призвание, обязана сохранять чистоту и целомудрие как в своей форме, так и в своем выражении», он оправдал журнал «Парижское обозрение» и автора, даже не взыскав с них судебных издержек. Несмотря на оправдательный приговор, это шумное разбирательство, столь чуждое искусству, ошеломило Флобера и преисполнило его отвращением. «Кроме всего, меня тревожит будущее; о чем же можно писать, если столь безобидное создание, если бедная моя госпожа Бовари была схвачена за волосы и, словно гулящая девка, доставлена в исправительную полицию?» Писатель отлично знал, что искусство и мораль – два совершенно различных явления; он поспешил вернуться в свой загородный дом и там, вдали от людей, принялся прилаживать новые струны «к своей бедной гитаре, которую забрасывали грязью». Образ этот показывает, что великий разрушитель романтизма в душе оставался романтиком. «Милостивый государь, вы принадлежите к числу людей, ведущих за собою свое поколение, – писал ему после процесса Виктор Гюго. – Сохраните же и несите высоко перед ним светоч искусства. Я пребываю во мраке, но люблю свет. Этим я хочу сказать, что люблю вас...» Слова эти, должно быть, заставили улыбнуться Флобера, однако он испытал известное чувство удовлетворения.