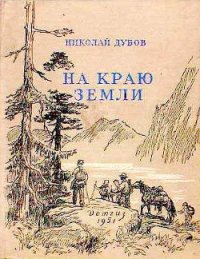Родные и близкие. Почему нужно знать античную мифологию - Дубов Николай Иванович (книги онлайн без регистрации полностью .TXT) 📗
— Как раз наоборот: он жаждет помогать. Но это, в общем, одно и то же. Он жаждет всё организовать и превратить в мероприятия, приуроченные к датам или ещё к чему-либо. Поставить исследования на поток, запланировать открытия и перевыполнить план выпуска научных трудов.
— Ну, и как вы?
— Пока справляемся. Слушаем его пламенные призывы, с неизменным подъемом голосуем, принимаем обязательства и — занимаемся своим делом. А он ездит по форумам и симпозиумам.
— М-да, фигура знакомая. Как говорится, носить не переносить… Слушай, Сергей, а зачем, собственно, нужно, чтобы каракатица жила долго?
— Никто не собирается превращать каракатицу в долгожительницу, — улыбнулся Сергей. — Биологи хотят познать причины и весь механизм старения живых организмов. Если удастся его узнать, быть может, откроется возможность и управлять этим механизмом, отодвигать старость. У головоногих обнаружили железу, выделяющую гормон старения, потому ими и заинтересовались.
— То есть ты полагаешь, что эта самая железа ускоренного старения заложена не только в твоих каракатицах, но и в других организмах? Что ж, вполне возможно. Природа — штука беспощадная: исполнил свою функцию и марш-марш на удобрение… Тогда, может, и в человеках заложена такая хреновина, которая заставляет их слишком поспешно стареть?
— Не знаю. Пока этого никто не знает. Но — не думаю… Человека старит не железа, а обстоятельства жизни. Люди так умеют отравить друг другу жизнь, что укорачивают её себе и другим без всяких специальных желез…
Шевелев поднял голову, в упор посмотрел на сына:
— Вот, ты сам заговорил об этом… Ты меня осуждаешь?
— Ты о чём?
— О вчерашнем. И вообще.
На скулах Сергея обозначились бугры. Он снова посмотрел в сторону моста Патона — «Ракеты», конечно, и след простыл, от моста, буравя тупым носом воду, вверх по течению шла самоходная баржа.
— Я не судья тебе, отец, — ответил Сергей. — Что касается этого балбеса Димки, я, наверно, сам бы его вздул. Только раньше и основательнее.
— Ты за домострой? — спросил Устюгов. — Его ещё до революции считали допотопным.
— Я за дом. Дом должен оставаться священным. В доме вырастают, из него уходят — это закономерно. Ты вырос — создавай свой дом. Но прежний, в котором ты вырос, нельзя превращать в заезжий двор, в свалку для своего душевного мусора… Впрочем, Димке никакая выволочка не поможет, пока жизнь не трахнет его мордой об стол… Только тогда будет поздно. Их много развелось, таких любителей приятной жизни. Иной поседеет, облысеет, а всё порхает, всё порхает. Эдакие седенькие, лысенькие мальчики…
— Надеюсь, ты не о присутствующих? — осклабился Устюгов и нежно погладил свою просторную лыину.
— Так ведь вы не порхаете, Матвей Григорьевич… А судить тебя? За что? О твоих отношениях с мамой я не знаю ничего. И вообще в этом не могу быть судьей. Ты сам? Ты всегда был для меня образцом. Ты воевал, я гордился этим и хвастал твоим орденом и медалями. Вы же не знаете, как мальчишки хвастали друг перед другом заслугами своих отцов… Когда ты вернулся из армии, сколько я помню, ты всегда работал как вол, чтобы обеспечить семью. Этим я тоже гордился и старался стать на тебя похожим… За что же мне судить тебя? Если на то пошло, я сужу не тебя, а себя. За то, что был мало внимателен к маме. Это не только моя вина, а, кажется, общая и неизбежная беда — дети уходят, у них появляется своя любовь, другая, отдельная жизнь, и она заслоняет, отодвигает прошлое. Всё меньше остается времени, чтобы вспомнить о матери, которая помнит о тебе всегда, дать ей почувствовать, что её тоже помнят и любят. В этом я виноват, как многие. Но не только в этом. Я не дал ей сделать живительный глоток молодости. Внуки — это ведь для бабушки возвращение в молодость, когда её собственные дети были такими же маленькими и беспомощными. И она как бы заново проходит тот счастливый промежуток жизни, который уже когда-то прошла…
— Боюсь, — сказал Устюгов, — боюсь, твои чувствительные построения в наш практический век отдают некоторой маниловщиной. «Глоток молодости», о котором ты так трогательно говорил, слишком часто оборачивается тем, что бабушка становится нянькой для внуков и заодно домработницей для дорогих деток…
— Нет, нет, — засмеялся Сергей, — у нас нет. Инга бы ничего подобного не допустила.
— Что теперь об этом говорить… — сказал Шевелев.
— Об этом, конечно, поздно. И я хотел говорить не о маме — о тебе.
— А что обо мне?
— Что ты собираешься делать?.. Я понимаю, бестактно говорить об этом на следующий день после похорон, но другой возможности не будет, а в письмах о таких вещах не договоришься… Мы давно в разброде. Теперь мамы не стало… Не трудно ли тебе будет? Я понимаю, у тебя есть друзья, знакомые, вы, конечно, встречаетесь…
— Теперь всё реже — стары стали, да и повымерли: кто на войне уцелел, тех она потом догоняет…
— Сколько бы их ни было, они семьи не заменят. Они придут, поговорят и уйдут, и ты снова останешься один. Я уж не говорю о всяких бытовых делах… Конечно, тетя Зина тебя не оставит. Вон вчера смертельно оскорбилась, а сегодня бульон все-таки принесла. Но и она ведь не девочка, ей тоже всё это уже трудно… Короче говоря: не переехать ли тебе к нам? Мы не роскошествуем, но ты будешь иметь отдельную комнату — так называемый кабинет мне попросту не нужен, хватит институтской лаборатории. Захочешь общаться — пожалуйста, не захочешь — делай что хочешь: читай, спи, гуляй, лови рыбу, если любишь… Инга? Я ещё не встречал человека, который бы к ней плохо относился. Думаю, и ты с ней поладишь. Ну, про моих сорванцов нечего и говорить. Они немедленно станут твоими телохранителями, рабами и кем ты только захочешь… Живем мы тихо, скандалов у нас не бывает.
— И как вы этого достигли? — спросил Устюгов.
Сергей засмеялся:
— Путем полной и безоговорочной капитуляции. У нас царит безусловный матриархат. Мужское население ведется по жизни нежной и трепетной рукой, но в случае надобности на ней мгновенно обнаруживается ежовая рукавица… А в общем, спасает чувство юмора. Когда Инга чем-то недовольна, она начинает изъясняться чрезвычайно торжественно и высокопарно. При её курносости, некоторой конопатости и округлых щеках с жизнерадостными ямочками это создает изрядный комический эффект. Ей самой становится смешно, так смехом всё и гасится…
— Ну что ж, — сказал Устюгов, — видимо, демон-искуситель до них ещё не добрался и не подсунул рокового яблока с древа познания добра и зла. Вполне райская жизнь. Соглашайся, Михаила, пока не поздно.
— Вы обращаете всё в шутку, а я надеялся, что вы поддержите меня, посоветуете отцу поехать к нам.
— Дорогой мой, — сказал Устюгов, нежно поглаживая лысину. — Советы дают из тщеславия, чтобы потом, когда их не выполнят, торжествовать и кричать: «Ага, а я говорил, я говорил!..» Принимают же советы для того, чтобы потом было кого винить в неудаче. Поэтому я никогда не даю советов. Только однажды я советовал твоему отцу, даже требовал не спасать меня. Он не послушался, и я не уверен, что впоследствии об этом не пожалел…
— Ну что плетешь? — сказал Шевелев.
Устюгов отмахнулся от него.
— Если же говорить всерьёз… то не в порядке совета, а так, умозрительно… Никуда не денешься — мы с ним уже попросту старые грибы. И если развить это уподобление, то держимся только до тех пор, пока цела незримая грибница привычек, быта, воспоминаний и каких-то привычных обстоятельств, которые эти воспоминания сохраняют и поддерживают. И стоит оборвать эту незримую грибницу, как человек, подобно твоим каракатицам, скоропостижно стареет… С летальным исходом, как говорят врачи, — сардонически осклабился Устюгов.
— Вот уж не ожидал от вас, — сказал Сергей. — Я биолог, но и то терпеть не могу никаких аналогий и параллелей подобного рода. Ни антропоморфизма, ни зооморфизма. Человек не гриб, если сам себя таким не делает. Люди всегда были легки на подъем, а сейчас больше, чем когда-либо. Колесят по всему миру, и ничего с ними не делается.