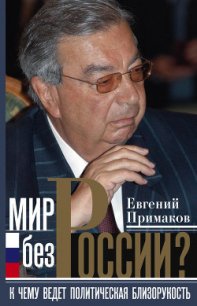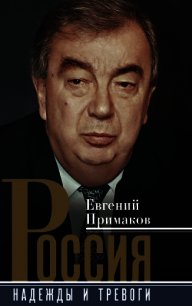Встречи на перекрестках - Примаков Евгений Максимович (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
– Если это не пройдет, – с восторгом пересказал Иноземцев слова Горбачева, – тогда народ сам все равно решит эту задачу.
Я понимал, что дискуссии в рабочих группах идут нешуточные и они давали определенный простор для новых идей. Но, опять-таки по словам Иноземцева, Брежнев, который был настроен на серьезную реформаторскую деятельность в партии и в обществе, коренным образом изменился после 1968 года – так его испугала Пражская весна.
– Николай, мы же с тобой фронтовики, неужели нам занимать мужества? – говорил он, прогуливаясь вдвоем с Иноземцевым во время работы на даче. За этим следовали рассуждения о необходимости радикальнейших перемен в стране, партии, кадрах. Такие разговоры прекратились после того, как советские танки вошли в Прагу. А потом к этому прибавились недомогание Брежнева и старческий склероз…
С постоянным нахождением Иноземцева в «брежневских группах», очевидно, было связано и сделанное мне предложение стать его первым замом в ИМЭМО – я оставался им с 1970 по 1977 год. Все серьезные, особенно кадровые, вопросы я решал только с Николаем Николаевичем, но повседневно практически руководил институтом.
Третий раз пришел в ИМЭМО уже в 1985 году, сменив на посту директора А.Н. Яковлева, который перешел на работу в ЦК заведующим отделом пропаганды. На моей кандидатуре настаивал Александр Николаевич.
Я переходил с директорской должности в Институте востоковедения – тоже очень важного академического института, не уступающего по размерам ИМЭМО. И все-таки ИМЭМО был значимее в плане выработки новых идей, новых подходов, нового отношения к процессам, происходящим в мире. Да и занимал особое место среди других академических институтов гуманитарного профиля своей близостью к практике, к структурам, вырабатывавшим политическую линию.
ИМЭМО возник после XX съезда партии в эпоху «оттепели» как преемник закрытого при Сталине Института мирового хозяйства и мировой политики, руководимого академиком Е.С. Варгой. До сих пор непонятно, как этот известный ученый, да еще с коминтерновским прошлым, осмелившийся писать о новых качествах капитализма, точнее, об «организованном капитализме», включающем в себя элементы плановости, и раскритикованный за это в пух и прах «самим», мог избежать ареста и умер своей смертью в 1964 году.
Когорта крупных научных исследователей – соратников Евгения Самуиловича Варги влилась в ИМЭМО в 1956 году. Заслуга его первого директора, Анушавана Агафоновича Арзуманяна, заключалась не только в том, что он широко открыл двери для этой плеяды прекрасных ученых и привлек для работы в институт целый ряд талантливых молодых специалистов, в том числе с «подпорченными» для того времени биографиями, но и создал атмосферу творческого поиска. В 50-х и 60-х годах ему в немалой степени помогало то, что он и А.И. Микоян были женаты на родных сестрах, и в этих условиях партийным реакционерам было трудно помешать развернуться институту как учреждению новаторскому, творческому.
Арзуманян ненавидел Сталина. Помню, во время моего первого пребывания в институте в 1962 году я был определен в группу по национально-освободительному движению, возглавляемую прекрасным ученым и человеком, к сожалению так рано ушедшим из этой жизни, В.Л. Тягуненко. Мы писали тезисы для ЦК, которые потом были опубликованы как интервью Хрущева. Арзуманян «завернул» первый вариант со словами: «Вы замаскированно используете сталинскую методику в определении разницы между буржуазной и национально-освободительной революциями. Это неприемлемо».
Разглядел все-таки…
По-настоящему ИМЭМО расцвел в те годы, когда его директором стал академик Николай Николаевич Иноземцев. У меня к нему особые чувства. Нас связывали, помимо служебных, дружеские и, что особенно важно, доверительные отношения. Это был, несомненно, выдающийся человек – образованный, глубокий, интеллигентный, смелый, – прошел всю войну офицером-артиллеристом, получив целый ряд боевых наград, и в то же время легкоранимый, главным образом тогда, когда приходилось решительно отбивать атаки своих личных противников, а таких было немало – злобных, завистливых.
Трудно было рассчитывать на то, что «старая гвардия» потеснится и уступит место тем, кто шел изнутри к обновлению системы. Противники ИМЭМО начали атаку на Иноземцева. Это было уже в то время, когда я стал директором Института востоковедения, но, что совершенно естественно, переживал за своих товарищей. Провокаторы пытались воспользоваться тем, что два молодых сотрудника ИМЭМО были арестованы по обвинению в связи с западной разведкой (позже обвинение не подтвердилось и они были с извинениями освобождены), затем последовали доносы на самого Иноземцева. В этой кампании активно участвовал член политбюро и секретарь Московского комитета партии Гришин, а также отдел науки ЦК. Подробности мне рассказал Ник Ник, которого я навестил в больнице на Мичуринском проспекте – у него резко ухудшилось здоровье. В.Н. Шенаев, в то время секретарь парткома ИМЭМО, несмотря на прямые угрозы высоких партийных боссов, занял жесткую, непримиримую позицию в защиту института и его директора. Особенно злило тех, кто занес руку над ИМЭМО, что в нем не оказалось предателей. Изнутри взорвать институт не удалось.
Все близкие советовали Ник Нику пойти к Брежневу – он наотрез отказывался. Тогда вместо него это сделали Арбатов и Бовин. Брежнев при них позвонил Гришину, и тот, будучи председателем специально созданной «по делу ИМЭМО» комиссии, не на шутку перепугавшись, на вопрос генсека, что там делается с Иноземцевым и его институтом, ответил: «Ничего об этом не знаю, Леонид Ильич, разберусь незамедлительно». Это означало конец открытой атаки. Противники нового затаились…
Нельзя не сказать и о том, что в самые застойные годы настоящим «островом свободомыслия» была Академия наук СССР. Парадокс заключался в том, что преобладающая часть ученых-естественников – а они задавали тон в академии – была так или иначе, прямо или косвенно связана с «оборонкой». Казалось бы, эта среда меньше всего подходила для политического протеста, больше всего должна была бы подчиняться диктуемой сверху дисциплине. А получилось совсем не так. Я был избран членом-корреспондентом АН СССР в 1974 году, а в 1979-м – академиком. Естественно, посещал все общие собрания, и на моих глазах часто разворачивались события, отнюдь не характерные для тех времен. Помню, как все руководство чуть ли не «на ушах стояло», чтобы провести в академики заведующего отделом науки ЦК Трапезникова – одного из близких Брежневу людей. На отделении истории его избрали, а на общем собрании – прокатили. Не помогли ни заранее проведенная работа, ни выступления, в том числе и некоторых уважаемых академиков, с призывом избрать Трапезникова. Говорилось не только о его «научных достижениях», во что мало кто верил, – подкупающе звучали слова о том, как много пользы академия получает от его поддержки, что, очевидно, было правдой. Но при тайном голосовании все-таки провалили.
Срабатывал синдром негативного отношения, может быть даже не всегда справедливого, ученых к партийным и советским функционерам, претендующим на членство в академии. Еще в члены-корреспонденты могли кое-кого пропустить, но в академики – как правило, нет. Вспоминаю общее собрание, на котором голосовалась в действительные члены АН СССР кандидатура члена-корреспондента министра высшего образования Елютина. Представлявший его академик – секретарь отделения – охарактеризовал Елютина как крупного ученого. Председательствующий, президент академии, спросил, есть ли замечания. Из зала потянулась рука и был задан вопрос: «Что сделал Елютин за тот период, который его отделяет от «членкорства», то есть за четыре года?» В ответ был приведен целый перечень работ, написанных претендентом и самостоятельно, и в соавторстве, и научным коллективом под его руководством. После этого академик, задавший вопрос, вышел на трибуну и сказал: «Если Елютин так много успел сделать по научной части, то, следовательно, он плохо работал министром – у него попросту на это не могло хватить времени. Или наоборот». В результате при тайном голосовании Елютина прокатили.