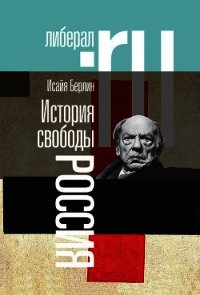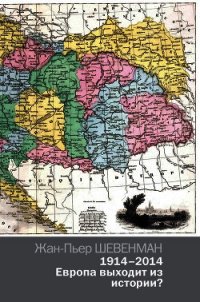Философия свободы. Европа - Берлин Исайя (бесплатные полные книги TXT) 📗
Очевидно, что, пытаясь приобрести знания о мире, внешнем или внутреннем, физическом или психическом, мы неизбежно замечаем и описываем лишь отдельные его черты – те, которые явственней прочих и привлекают к себе внимание, ибо мы особенно в них заинтересованы, практически или теоретически; те, благодаря которым люди друг с другом общаются; те, которые можно неверно понять или описать, но знать в определенной степени нужно, ибо без этого мы не сможем действовать даже себе на пользу; интересные или неинтересные объекты действий, мыслей, чувств или созерцания. Мы ощущаем, что знаем все больше, по мере того как открываем неизвестные факты и связи, особенно те, которые важны для наших главных целей – выживания и всех средств для него, счастья, удовлетворения множества разнообразных и противоречащих друг другу потребностей, ради которых люди делают то, что делают, и становятся такими, а не другими.
Из таких исследований выпадает все, что слишком очевидно. Если мы антропологи и описываем человеческие обычаи или верования, мы заметим и опишем то, чем другие племена отличаются от нас или в чем они, против ожидания, сходны с нами. Мы не фиксируем, например, что аборигены Полинезии предпочитают тепло морозу или не любят голода или физической боли. Это само собой разумеется; если аборигены принадлежат к человеческому роду, то для них все это так же верно, как и для нас и всех других людей, о которых мы слышали. Мы не сообщаем, что головы у них объемны и что перед ними и за ними существует какое-то пространство, – все это вытекает из самих определений и должно быть принято как данность.
Когда задумываешься над тем, как много фактов, обычаев, убеждений мы принимаем как данность, когда говорим или думаем о чем бы то ни было, из скольких мнений – этических, политических, социальных, личных – складывается мировоззрение одного-единственного человека, пусть самого незамысловатого и не склонного к рефлексии, в любой заданной среде, мы начинаем осознавать, сколь малую часть всей этой совокупности способны вместить наши науки – не только естественные, которые имеют дело с обобщениями на высоком уровне абстракции, но и гуманитарные, «импрессионистские» исследования, история, социология, интроспективная психология, методы романистов, мемуаристов, исследующие человеческую жизнь со всевозможных точек зрения. Тут нечему удивляться и не о чем сожалеть: если бы мы осознавали все, что мы в принципе можем знать, мы очень быстро лишились бы рассудка. Для самого примитивного наблюдения или размышления нужно, чтобы некоторые устойчивые навыки, целая система мыслей, лиц, идей, верований, установок разумелись сами собой, находились вне критики, не подлежали анализу. Наш язык, да и любая система символов, посредством которой мы мыслим, пронизаны этими основными установками. Мы не способны, даже в принципе, перечислить все, во что мы верим, поскольку слова или символы, при помощи которых мы делаем это, воплощают и выражают определенные установки, которые ex hypothesi [15] в них «инкапсулированы» и не могут быть легко описаны с их помощью. Мы можем использовать один набор символов для того, чтобы обнаружить те допущения, которые лежат в основе другого, а хотя это так мучительно, трудно, ответственно, что очень немногие, особенно тонкие, глубокие, серьезные, проницательные, отважные, трезвые мыслители смогли это хоть как-то осуществить; но не можем исследовать всю совокупность нашей символики, не используя при этом никаких символов. Нет Архимедовой точки, на которую мы могли бы встать; нет наблюдательного пункта, с которого мы могли бы обозревать и анализировать все, что принимаем как данность, потому что мы ведем себя так, как будто мы это принимаем. Тут нечего и думать, это заведомо нелепо.
Глубина мыслителей – профессиональных философов, романистов или просто даровитых людей – в том и заключается, что они способны проникнуть в одно из главных допущений, запечатленных в какой-нибудь распространенной установке, выделить его и задаться вопросом: как было бы, если бы его не было? Когда затронут один из нервов, благодаря которым мы чувствуем так, а не иначе, мы ощущаем удар тока, а он сообщает нам, что состоялось подлинное прозрение. В этот неповторимый, мгновенно распознаваемый, поразительный миг мы ощущаем хотя бы рядом тот особый, очень редкий дар, которым наделены те, кто помогает нам осознать наиболее вездесущие и наименее наблюдаемые категории, лежащие ближе всего к нам и по этой самой причине ускользающие от описания, как бы мы ни напрягали чувства и любознательность, как бы ни старались зарегистрировать все, что нам известно.
Любой узнает то свойство, о котором я говорю. Ньютон занялся тем, что долго привлекало внимание философов и ученых, и предложил решения проблем, известных своей сложностью, отмеченные простотой и полнотой, столь свойственными его гению. Но результаты взволновали разве что специалистов, других физиков или космологов. Он, без сомнения, изменил многие взгляды людей, но ничто из сказанного им не коснулось непосредственно их сокровенных мыслей и чувств. Паскаль поставил эти категории под сомнение, коснулся тех полусознательных, или совсем бессознательных, навыков мышления, убеждений, установок, в которых внутренняя жизнь, основные компоненты их собственных миров являли себя людям его времени. Он сделал великие открытия в математике, но не за это его мысль считают исключительно глубокой; в его «Pensées» нет формальных открытий, нет ответов, там даже не сформулированы ясно проблемы и не сказано, как их решать. И все-таки Локка, который все это делал и был очень влиятельным, не считали особенно глубоким, несмотря на его оригинальность, на универсальность и на то, что он столько сделал в философии и политике, тогда как Паскаль оставил одни отрывки. То же самое и с Кантом. Он вывел на свет исключительно всепроникающие, исключительно фундаментальные категории – пространство, время, число, вещность, свободу, нравственную личность; и хотя, кроме того, он был систематичным, а часто – педантичным философом, неудобочитаемым, малопонятным логиком, рутинным метафизиком, моралистом профессорского склада, его при жизни признали не просто гениальным человеком, но одним из немногочисленных подлинно глубоких, а значит, революционных мыслителей в истории человечества, который не просто обсуждал то, что обсуждают другие, не просто видел то, что другие описывают, и не просто отвечал на то, о чем обычно спрашивают, но проникал сквозь толщу предположений и допущений, которые сам язык воплощает в навыках мышления, базовых системах, в рамках которых мы мыслим и действуем, и затронул их. Ничто не сравнится с ощущением, что тебе открывают свойства самых сокровенных орудий, посредством которых ты думаешь и чувствуешь, – не задач, решения которых ты ищешь, даже не решений, но самых глубоких понятий, самых укорененных категорий, которыми, а не о которых, ты думаешь. Тебе являют пути, которыми идет твой опыт, а не природу этого опыта, каким бы замечательным и поучительным ни был бы его анализ.
Казалось бы, ясно, что нам легче всего наблюдать и описывать обстановку внешнего мира – деревья, скалы, дома, столы, других людей. Те, кто склонен вглядываться в себя, могут чутко и точно описывать свои чувства и мысли; те, чей разум острее и аналитичней, могут как-то выделить и описать основные категории, в рамках которых мы мыслим, – различия между математическим и историческим мышлением, или между понятием вещи и личности, или между субъектом и объектом, или между действием и ощущениями. Категории, связанные с формальными дисциплинами, имеющими относительно ясные правила, – физикой, математикой, грамматикой, языком дипломатов, – исследовать довольно легко. Те, что связаны с менее членораздельной деятельностью – с музыкой, поэзией, прозой, живописью, ежедневным общением людей и «обыденной» картиной мира, – по очевидным причинам, поддаются труднее. Мы можем строить науки, допуская определенные инварианты; мы предполагаем, что поведение камней, травы, дерева, бабочки не настолько отличалось во тьме прошлого, чтобы свести на нет гипотезы сегодняшней химии, геологии, физики, ботаники или зоологии. Если бы мы не были убеждены, что люди достаточно подобны друг другу в основных и доступных обобщению аспектах на протяжении достаточно длинных отрезков времени, мы не могли бы доверять тем обобщениям, которые, сознательно или нет, возникают не только в таких науках, как социология, психология и антропология, но и в истории, в искусстве романиста, в политической теории и в любых формах социального наблюдения.