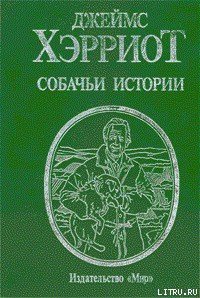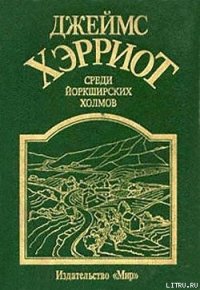О всех созданиях – больших и малых - Хэрриот Джеймс (читать книги онлайн без .txt) 📗
Но сама работа была легче легкого. После того что я натерпелся из-за неправильного положения плода у коров, возиться с этими крохотными созданиями было одно удовольствие. Ягнята обычно появляются на свет по двое и по трое, и порой получается поразительная путаница в самом буквальном смысле: мешанина головок и ножек, и все пытаются пройти первыми, а ветеринар должен их рассортировать и решить, какая ножка принадлежит какой головке. Я просто упивался. До чего же приятно было против обыкновения чувствовать себя больше и сильнее своих пациенток! Однако я никогда не злоупотреблял своим преимуществом, раз и навсегда решив для себя, что при окоте необходимы две вещи – чистота и мягкая осторожность.
А уж ягнята! Все детеныши трогательны, но ягнята получили несправедливо большую долю обаяния. Мне вспоминается пронизывающе холодный вечер на холме, когда под ударами ветра я помог появиться на свет двойне. Ягнята судорожно потрясли головками, и уже через несколько минут один поднялся на ножки и неуверенно заковылял к вымени, а второй решительно двинулся за ним на коленях.
Пастух, пряча багровое, обветренное лицо в поднятом воротнике тяжелой куртки, усмехнулся:
– Ну откуда они, черт дери, знают?
Он тысячи раз наблюдал это, но по-прежнему дивился. И я тоже.
Еще одно воспоминание. Двести ягнят в сарае. День очень теплый, и мы вводим им сыворотку против размягченной почки и не разговариваем, потому что протестующие ягнята пронзительно вопят, а примерно сотня матерей басисто блеет, беспокойно кружа снаружи. Я не мог себе представить, как овцы отыщут своих ягнят в такой толчее почти совершенно одинаковых крошек. Конечно, на это потребуются часы!
А потребовалось на это около двадцати пяти секунд. Кончив, мы открыли двери сарая, и навстречу потоку ягнят метнулись обезумевшие матери. Шум был оглушительный, но он быстро стих, сменившись блеянием двух-трех овец, которые последними воссоединились со своими отпрысками. Затем стадо, разбившись на семейные группы, спокойно отправилось на пастбище.
В мае и в начале июня моя работа становилась все легче, и я уже забыл, что такое холод. Ледяные ветры были теперь лишь неприятным воспоминанием, и в воздухе, свежем, как дыхание моря, веяли ароматы тысяч цветов, усеявших луга. Порой мне становилось совестно, что я получаю деньги за мою работу – за то, что ранним, утром я еду среди полей, озаренных первыми лучами солнца, и любуюсь легкими клочьями тумана, которые еще льнут к вершинам холмов.
В Скелдейл-Хаусе буйно зацвела глициния; она врывалась во все открытые окна, и я, бреясь по утрам, вдыхал пряный аромат тяжелых розовато-лиловых гроздьев, покачивавшихся совсем рядом с зеркалом. Жизнь превратилась в идиллию.
В этой бочке меда была лишь одна ложка дегтя: настало время лошадей. В тридцатых годах, хотя трактор уже начал свое неумолимое наступление, на фермах еще оставалось немало лошадей. Ближе к равнине, где было много пахотной земли, конюшни заметно опустели, однако лошадей было еще достаточно для того, чтобы превратить май и июнь в беспокойные месяцы. Именно тогда проводилась кастрация.
А до этого жеребились кобылы, и зрелище матери с сосунком, трусящим за ней или растянувшимся на траве, пока она паслась, не привлекало особого внимания. Не то что теперь, когда при виде рабочей лошади с жеребенком на лугу я останавливаю машину, чтобы хорошенько на них наглядеться.
Когда кобылы жеребились, работы вполне хватало и с ними самими, и с жеребятами, которым надо было подрезать хвосты, не говоря уж о недугах новорожденных – задержании первородного кала, инфекционных поражениях суставов. Это было тяжело, но интересно; однако, когда устанавливалась теплая погода, фермеры начинали подумывать о том, что пришла пора холостить стригунов.
Мне не нравилась эта работа, а операций бывало в сезон до сотни, и они омрачали и эту, и многие последующие весны.
Обычно все шло гладко, но иногда жеребенок брыкался, кидался на нас. Девять раз из десяти операция никаких затруднений не вызывала, но на десятый превращалась в родео. Не знаю, как все это действовало на других ветеринаров, но я в такие дни с утра внутренне весь сжимался.
Разумеется, причина отчасти заключалась в том, что я не был, не стал и никогда не стану лошадником. Определить точный смысл этого понятия трудно, но я убежден, что лошадниками либо рождаются, либо становятся в раннем детстве. А мне было далеко за двадцать, и я понимал, что мое время для этого давно прошло. Я знал болезни лошадей, я полагал, что могу неплохо их лечить, но дар истинного лошадника уговаривать, успокаивать и подчинять себе лошадь не был мне дан. Я даже не пытался себя обманывать.
Вне всякого сомнения, лошади чувствуют это, а потому я оказывался в невыгодном положении. Коровы – дело другое: им все равно. Если корове захочется вас брыкнуть, она вас брыкнет. Ее совершенно не трогает, знаток ли вы коров или нет. Но лошади – те чувствуют.
А потому, когда в такие дни я начинал объезд и у меня за спиной на заднем сиденье стучали и звякали уложенные на эмалированном подносе инструменты, настроение у меня сразу падало. Будет ли он бесноваться или вести себя тихо? Крупный он или не очень? Я не раз слышал, как мои коллеги небрежно утверждали, что предпочитают крупных жеребят. Двухлетки куда приятнее, говорили они, легче наложить щипцы. Но сам я твердо знал одно: мне жеребята нравятся маленькие и, чем меньше, тем лучше.
Как-то утром, в самый разгар сезона, когда я был по горло сыт конским племенем, Зигфрид, уходя, окликнул меня:
– Джеймс, поезжайте в Уайт-Кросс к Уилкинсону. У него лошадь с опухолью на животе. Прооперируйте. Если можно, сегодня или когда вам будет удобно. Я оставляю ее на вас.
Злясь на судьбу, которая подложила мне этот сюрприз сверх сезонной работы, я прокипятил скальпель, щипцы и шприц, уложил их на поднос рядом с коробочкой пузырьков кокаинового раствора, йодом и антистолбнячной сывороткой и отправился на ферму.
Всю дорогу поднос зловеще погромыхивал у меня за спиной. Этот звук всегда отдавался в моих ушах, как барабаны рока. Я по обыкновению прикидывал, какой окажется эта лошадь. А вдруг стригунок? У них иногда бывают такие небольшие болтающиеся опухоли – фермеры еще называют их ежевичкой. На протяжении шести миль я успел создать умилительный образ жеребеночка с кроткими глазами, отвислым животом и буйно разросшейся гривой. Зиму он перенес плохо, скорее всего мучается глистами и даже на ногах еле держится от слабости.
Во дворе фермы стояла тишина. Там не было никого, кроме мальчугана лет десяти, который не знал, куда ушел хозяин.
– Ну а лошадь где? – спросил я.
Он кивнул на конюшню:
– Вон там.
В глубине я увидел стойло с металлической решеткой, венчавшей деревянные стенки. Оттуда донеслось басистое ржание, затем фырканье и наконец громовые удары копыт в стену. У меня по коже поползли мурашки. Нет, там явно был не жеребенок.
Я приоткрыл верхнюю половину двери, и на меня сверху вниз глянул четвероногий гигант. Я даже не думал, что лошади могут быть такими огромными. Буланый жеребец с гордо изогнутой шеей и копытами, как чугунные крышки уличных шахт. На его плечах и крупе перекатывались бугры мышц. При моем появлении его уши легли, белки глаз блеснули и копыта с грохотом впечатались в стену. Мимо просвистела, длинная щепка.
– О господи! – прошептал я, торопливо закрыл верхнюю половину двери, привалился к косяку и долго слушал барабанную дробь собственного сердца. Потом я повернулся к мальчику:
– Сколько ему лет?
– Седьмой год, сэр.
Я попытался собраться с мыслями. Как подступиться к такому людоеду? Подобных коней я еще не видывал: он весил никак не меньше тонны. Нет, надо взять себя в руки. Ведь я даже не посмотрел на опухоль, которую мне предстояло удалить. Приподняв щеколду, я отворил дверь самую чуточку и заглянул в стойло. Вот она – болтается под брюхом. Скорее всего папиллома, величиной с теннисный мяч: типичная, словно мятая, поверхность, отчего она похожа на кочан цветной капусты. При каждом движении коня опухоль легонько покачивалась. Убрать ее проще простого. Ножка тонкая; ввести несколько кубиков анестезирующего раствора, наложить щипцы – и дело с концом.