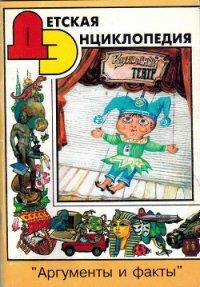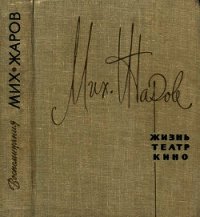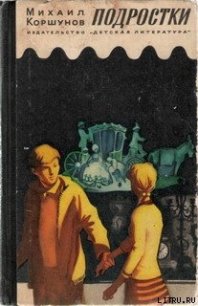Футбольный театр - Сушков Михаил Павлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений .txt) 📗
Я вошел в зал и, отыскав глазами начальника штаба, направился к нему, чтобы доложить о прибытии. Но не успел сделать и нескольких шагов, как услышал… Голос донесся от одного из столов, за которым сидело с десяток военных.
– Миша!
Ко мне, раскрыв объятия, летел Александр…
Он похудел, лицо уставшее, серое. Оно показалось мне сперва чужим, утратившим знакомую мальчишескую мягкость, скупым на улыбку. Только минуту спустя в смеющихся глазах обнаружил родное, близкое и… не то, чтобы детское – сохраненное, донесенное от детства.
Он усадил меня за стол рядом с собой. Кто-то предложил выпить за счастливую встречу. Минут десять мы с ним сбивчиво, прерывая друг друга, рассказывали о себе. Потом Хрулев, перекрывая голоса, крикнул:
– Ну ладно, братья, нынче еще успеете наговориться – вся ночь ваша. Ты, Михаил, сыграл бы нам… что-нибудь для души. Хочется хорошей музыки послушать, истосковались по красивому, людскому…
И верно, истосковались. Бойцы облепили рояль и слушали вальс Шопена, который, несмотря на большой перерыв, получался у меня неплохо. И это потому, что стояла неожиданная, удивительная для подвыпившей компании тишина. Здесь были и такие, кто, возможно, видел рояль и слышал его звуки впервые. Но слушали, как знатоки большого музыканта. Я это чувствовал. Чувствовал, как прихватил их сердца, ощущал вокруг себя весеннюю капель, оттаивание заиндевелых душ.
От музыки дохнул на них аромат той истинно красивой жизни, к которой они стремились, за которую вели эту войну. Сейчас им чуть приоткрылся лик этой жизни и показался прекрасней, чем они того ожидали.
Я обратил внимание, как хмелели эти люди…, вернее, на качество, что ли, охмеления – ничего похожего на разгульно-купеческое, бесшабашное «пей-гуляй»… На уставших, изнуренных лицах блестели глаза. И улыбка… не то, чтобы сдержанная – какая-то бессильная.
Потом они пели под мой аккомпанемент, очень немногие танцевали, плясали, к тому же не слишком дружно. Большинство оставались за столами и в основном слушали – вальсы, польки, падеспани, которые я подбирал по слуху. Под конец ко мне подошел начштаба Хрулев и сказал:
– Ну, Миша… Спасибо тебе, брат! Я и не знал, что ты так хорошо играешь. Я, конечно, не шибко в этом разбираюсь, но кажется мне, человек ты талантливый. Думаю, скоро мир наступит. Останешься жив, непременно иди учиться. И не слушай дураков, которые говорят, что революции эти дела не нужны. Ты нынче сам видел: нужны или нет?!
Наступил 1921 год. Военные действия на западном театре войны закончились. 15-ю армию перевели в Россию, в Великие Луки. Случайно ли так совпало, или кто-то подсказал квартирмейстерам, но при расквартировании штаба меня поселили в дом, где имелось пианино.
Несколько дней спустя в дверях штаба я случайно встретился с Хрулевым. Он прошел мимо, не обратив на меня внимания. Но вдруг остановился, оглянулся и сказал:
– Сушков, поди-ка сюда. Я подошел.
– Проезжал я тут… из машины заметил вывеску: «Великолукская музыкальная школа». Ты узнай, может, она и не работает? Если работает, запишись и начинай учиться. Я скажу, чтобы тебя отпускали. Выйдут какие сложности, приходи ко мне. Чем смогу, помогу.
Школа работала. Я стал учащимся ее фортепианного отделения. Но вскоре, по совету нашего хормейстера, который нашел у меня неплохой голос, поступил в класс вокала.
…Поздней осенью 1921 года наступил конец моей солдатской жизни – пришел приказ о демобилизации. Один из товарищей по службе уговаривал меня поехать к нему на родину, в Симбирск. Я серьезно отнесся к этой мысли – в Москве мне нечего было делать. К этому времени я уже получил печальные вести. Семья моя уехала в Ростов еще в девятнадцатом году. Там от черной оспы умерла мать… На фронте погиб брат Сергей. Остальные разъехались кто куда, след их временно потерялся.
Я согласился ехать в Симбирск с одним непременным условием: остановиться на несколько дней в Москве.
Первая же встреча здесь поломала мои планы.
Сева Кузнецов (напомню: полузащитник из СКЗ) буквально бросился мне на шею. Он тискал меня, обнимал. В глазах его стояли слезы.
– Мишка! Живой! – восклицал он. – Ну, радость какая! Ребята нынче умрут от радости!
И тут я понял: попал домой. Домой! Во всей глубине, сложности и многозначности этого слова. В то место, где тебя ждут, где тебя знают, где в тебе нуждаются, где по тебе тоскуют, наконец. В место, где тебя понимают, где тебе помогают, где на тебя сердятся за то, что делаешь глупости в ущерб самому себе.
Я не лежал в окопах, но два с половиной года тем не менее изо дня в день моя жизнь висела на волоске. Редко бывало, когда наш полевой штаб находился вне зоны артиллерийского обстрела, не раз приходилось выходить из тылов противника, пробиваться сквозь смертоносные полосы сплошного огня. И потому за эти два с половиной года я прожил жизнь куда более длинную, чем мои московские друзья. Думаю, им здесь тоже было несладко. Сейчас мне казалось, что прошло очень много времени и вряд ли кто-либо, кроме родных, способен на столь длинную дружескую память обо мне. К тому же во мне говорил неизбежный комплекс возвращающегося на родину солдата – он ощущает в себе некую ущербность, ему кажется: пока он служил, товарищи его росли, набирались ума, утверждались в жизни. Он чувствует свое сильное отставание и боится снисходительных взглядов.
Все это неосознанно, где-то в глубинах гнездилось во мне, диктовало мои решения, мое поведение.
И вдруг эта неожиданная мощная тепловая волна, этот прорвавшийся к моим берегам Гольфстрим… Душа начала оттаивать. Все во мне сдвинулось, заходило, как в половодье. Ну кто же добровольно идет мимо дома, где тысячу лет не был и где тебя любят и ждут?!
Вечером в павильоне дяди Саши «Стрекоза» обсуждала вопрос: где мне жить? Решили его в минуту. Председатель СКЗ Василий Михайлович Волков, единственный в этой компании глава семьи, а стало быть, хозяин в своем доме, сразу сказал:
– Чего тут голову ломать? Поживешь пока у меня. Живем мы, правда, теперь все в одной комнате, но нас мало – я, жена да дочка четырнадцати лет. Кровати не предложу. Ничего, поспишь на сундуке. Ты привычный – солдат.
Да, это верно: фронтовик приходит с некоторым чувством собственной ущербности, с сознанием потерянного времени, упущенных возможностей. Но именно это сознание мобилизует его, вызывает прилив энергии, побуждает к кипучей деятельности. Он, как никто, умеет ценить секунды. К тому же после нечеловеческих тяжестей окопной жизни шагать по мирной, тыловой земле кажется ему делом до смешного простым, пустячным. Пройдя сквозь бесконечную вереницу дней войны, фронтовик приходит домой и с ходу учиняет ревизию своим взаимоотношениям с жизнью, проводит переоценку ценностей – он всматривается в мирские проблемы, и большинство из них чудятся ему не слишком серьезными. Господи, говорит он, мне бы ваши заботы! Это уж потом, спустя какое-то время он с удивлением обнаруживает, что иные мирные проблемы решаются куда тяжелее, чем фронтовые. И все-таки даже после того, как проходит это послефронтовое возбуждение, он не перестает ощущать в себе накопленную духовную силу, духовное преимущество, он чувствует некую гипнотическую мощь, которой подчиняет себе людей, не хлебнувших фронта.
В великолукской музыкальной школе меня много и сильно хвалили, и, попав в Москву, я вдруг загорелся желанием стать певцом. До войны, как и многие юноши, я страдал пороком – застенчивостью. Но огни и воды военных дорог вооружили меня глубоким пониманием двух замечательных истин: «Не сотвори себе кумира» и «Не боги горшки обжигают».
На другой же день по прибытии в Москву я отправился в консерваторию, поймал там первого попавшегося студента-вокалиста и допросил насчет педагогов вокала. Он назвал несколько фамилий. Тогда я спросил: кто из них лучший? Студент отвечал так, словно сдавал мне экзамен. После долгих прикидок, подсчетов достоинств и недостатков он с некоторой неуверенностью остановился на профессоре Барцале.