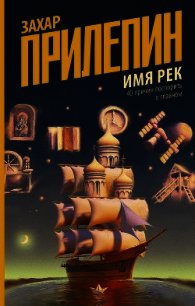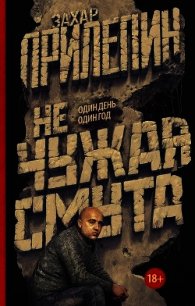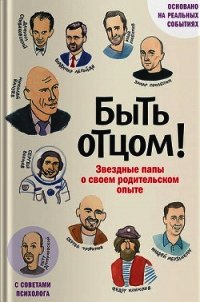Обитель - Прилепин Захар (книги бесплатно без онлайн txt, fb2) 📗
“Тем более всем тут надо жить, – завершил рефлексии по этому поводу Артём. – Разве интеллигент – это тот, кто первым должен подохнуть?”
Потом Артёма перевели из карантинной в двенадцатую, в тот же день по досрочному освобождению ушёл бытовик, спавший выше ярусом над Василием Петровичем, и Артём занял пустое место.
Очередную посылку он снова припрятал через Василия Петровича, поделившись с ним и в этот раз.
Когда бродили за ягодами, Василий Петрович в минуту роздыха, вкратце рассказал Артёму историю о том, как угодил на Соловки.
В 1924 году по старым ещё знакомствам Василий Петрович несколько раз попал на вечеринки во французское посольство: недавнее полуголодное прошлое военного коммунизма приучило всех наедаться впрок, а французы кормили.
“Накрывают красиво, а съесть нечего”, – сетовал, впрочем, Василий Петрович.
Раз сходил, два, в третий раз на обратном пути попросили сесть в машину и увезли в ОГПУ. Определили как французского шпиона, хотя следствие было из рук вон глупое и доказать ничего не могли совершенно.
– Позорище! – горячился Василий Петрович, однако результат был веским: статья 58-я, часть 6 – шпионаж.
– А у вас что? – спросил тогда Василий Петрович, потирая руки так, словно Артём собирался угостить его, к примеру, варёной картошечкой.
– У чужой бабы простоквашу выпил – заработал кнута и Сибирь, – отмахнулся Артём.
– Артём, мне всё равно, но вы должны знать, что здесь так не принято, – с несколько деланой строгостью, в манере хорошего учителя сказал Василий Петрович. – Если вас спросят, к примеру, блатные, за что угодили на Соловки, – придётся ответить. Потом, разве вы не рассказывали о своей статье на следствии, когда сидели в камере? В камере сложно смолчать – могут подумать, что вы подсаженный.
– Глупость, – сказал Артём. – Как раз подсаженный научен красиво врать.
– Неужели вы бытовик? – всё не унимался Василий Петрович. – А вид у вас, как у законченного каэра! Не верю, что вы способны украсть!
Артём, усмехаясь, покивал, но так ничего и не ответил. Шёл неоглядой, жил неоглядой, задорный, ветреный. Надолила судьба – живу теперь в непощаде. Главное – никогда не вспоминать про отца, а то стыд съест и душа надорвётся.
– …Да и общаетесь с каэрами по большей части, – продолжал Василий Петрович, поглядывая на Артёма.
– Я общаюсь с нормальными людьми, – ответил тот, потому что от него ожидался хоть какой-то ответ.
– И как нормальный человек относится к большевикам? – поставил Василий Петрович неожиданный вопрос.
– У меня младший брат – он пионер и очень бережёт свой красный галстук. А мне нет до большевиков никакого дела. Случились и случились. Пусть будут, – выкладывая слово за словом продуманно, то есть в несвойственной ему манере, ответил Артём.
Пока Василий Петрович нарезал лучок, Артём осматривал келью.
Он был откровенно удивлён.
Высокие белёные потолки. Дощатые, не так давно крашенные в коричневый цвет полы. Вымытое окно почти в человеческий рост. Всего две лежанки. Одна не застелена – на ней доски. Зато на другой – покрывало с тигром, видна белоснежная простыня, подушка взбита и, кажется, ароматна. Над кроватью – полочка с книгами: несколько английских романов, Расин, некто Леонов с заложенным неподалёку от начала сочинением “Вор”, Достоевский, Мережковский, Блок – которого Артём немедленно схватил и раскрыл с таким чувством, словно там было письмо лично ему.
Прочёл несколько строк – закрыл глаза, проверил, помнит ли, как там дальше, – помнил; бережно поставил томик на место.
Стол был покрыт скатертью, на столе – электрическая лампочка с расписанным акварелью абажуром, в углу иконка с лампадкой, на гвоздике серебряный крест – Артём коснулся его и чуть качнул.
В нише окна размещались фотография женщины и фарфоровая собачка – белая в чёрных пятнах, с закрученным хвостиком, надломленным на самом кончике.
“А так и в лагере можно жить… – подумал Артём. – Потом ещё будешь вспоминать об этом…”
– Да, Артём, да, так можно жить даже в лагере, – подтвердил Василий Петрович.
Артём никогда б не поверил, что мог произнести последнюю мысль вслух, – он был молодым человеком, нисколько не склонным к склерозу, – однако на мгновенье всё равно замешкался.
– Ну да, – сказал, справившись с собою. – Догадаться несложно. А что Бурцев? Где он?
Василий Петрович, не отвечая, по-хозяйски взял плошку из самодельного шкафа, вылил туда сметанку.
Изучив убранство, Артём уселся на крепкую табуретку меж столом и окошком, стараясь не смотреть, как Василий Петрович ножом ссыпал лучок в плошку и начал всё это большой ложкой размешивать, изредка посыпая солью, – о, как хотелось эту ложку облизать!
Артём взял фарфоровую собачку, повертел её в руках и аккуратно провёл пальцем по линии надлома на хвостике, глотая непрестанную слюну.
– Ах, Артём, как я любил кормить свою собаку, – Василий Петрович выпрямился и, лирически шмыгнув носом, вытер глаз кулаком. – Я ведь не охотник совсем, я больше… для виду. Ружьишко на плечо, и в лесок. Увижу какую птицу, вскину ствол – она испугается, взлетит, и я ругаюсь: “Ах, чёрт! Чёрт побери, Фет”, – я собаку назвал Фет, в шутку или из любви к Фету, не знаю, чего тут было больше… У Мезерницкого вроде бы имелся Фет? – Василий Петрович быстро глянул в сторону книжной полки и тут же забыл, зачем смотрел.
Он говорил, как обычно, прыгая с пятое на десятое, но Артём всё понимал – чего там было не понять.
– Ругаюсь на собаку так, – рассказывал Василий Петрович, – как будто всерьёз собирался выстрелить. И Фет мой, по морде видно, тоже вроде как огорчён, сопереживает мне. В другой раз я, учёный, ствол уже ме-е-едленно поднимаю. Фет тоже притаится и – весь – в ожидании! А я смотрю на эту птицу – и, знаете, никаких сил нет спустить курок. Честно говоря, я и ружьё-то, как правило, не заряжал. Но когда поднимаешь ствол вверх и прицеливаешься – всё равно кажется, что оно заряжено. И так жутко на душе, такой трепет.
Артём поставил собачку на место и взял портрет с женщиной, не столько смотря на её сомнительную прелесть – “…мать, что ли?” – сколько пытаясь стеклом уловить последние лучи солнца и пустить зайчик по стене.
– И длится это, быть может, минуту, но, скорей, меньше – потому что минуту на весу ружьё тяжело держать. И Фет, конечно, не вытерпит и как залает. То ли на меня, то ли на птицу – уж не знаю на кого. Птица опять взлетает… А я смеюсь, и так хорошо на душе. Словно я эту птицу отпустил на волю.
“Пошлятина какая-то…” – подумал Артём без раздражения, время от времени поднимая глаза и с улыбкой кивая Василию Петровичу.
– И вот мы возвращаемся домой, – рассказывал тот, – голодные, по своей тропинке, чтоб деревенские не видели, что я опять без добычи, хотя они и так знали всегда… И Надя нам уже приготовила ужин – мне что-нибудь сочинила, а Фету из вчерашних объедков… – здесь Василий Петрович вдруг поперхнулся и несколько секунд молчал. – А я ему тоже в его плошку отолью вчерашних щец, хлебушка покрошу и даже, к примеру, жареной печёнки не пожалею, а сверху ещё яичко разобью – он, знаете, любил сырые яйца почему-то… И вот вынесу ему эту плошку, он сидит, ждёт… Поставлю перед ним – сидит, смотрит… Он будто бы стеснялся при мне есть. Или какое-то другое чувство, быть может. Я отойду подальше, говорю: “Ешь, милый, ешь!” И он, словно нехотя, словно бы в первый раз, начинает обходить эту плошку с разных сторон и обнюхивать её.
Артём снова проглотил слюну: если б вздумал открыть рот – так и плеснуло бы на скатерть.
“Странно, что это никогда не приходило мне в голову, – быстро даже не подумал, а скорей представил Артём. – Наверняка это очень вкусно: борщ, сверху насыпать жареной печёнки, наломать хлеба и умять его ложкой, так, чтобы борщ пропитал этот хлеб… И сверху разбить два или лучше три куриных яйца, чтоб они так неловко разлились по хлебу, кое-где смешавшись с борщом, но сам желток всё равно останется на поверхности… И с минуту принюхиваться к этому, а потом вдруг броситься есть, глотать кусками эту печёнку с капустой, хлеб с яйцом…”