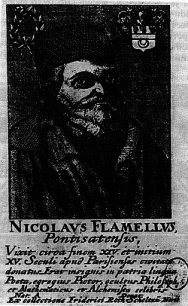Седьмая часть тьмы - Щепетнев Василий Павлович (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
— Вам нравится ваша работа? Мне — нет. В последнее время особенно. Меньше и меньше. Ваши приемы, ваши методы, ваши аргументы устарели. Они годились, с оговорками, в начале века, розовый флер ожиданий, смутные планы, теоретические дискуссии. Но сейчас-то, сейчас! Не время витийствовать! Наш центральноевропейский союз воюет! Бьется! Со всех сторон окруженная врагами, страна напрягает последние силы. Противника не возьмешь наскоком, кавалерийской атакой, он могуч, только трус боится признать сей факт. Мы, Коминтерн, существуем отнюдь не для просветительства заблудших, мы не воскресная школа. Мы боремся, не пушками, не бомбами, а словом. Бороться не значит ругать и поносить врага. Ругать необходимо, но в меру. Мы должны искать во вражьем стане слабину, непрочное звено — недовольных, сомневающихся, сочувствующих нам, нашим идеям, искать и звать к себе, показывать перспективы свободы, воли. Если требуется — объяснять, если требуется — манить, прельщать, соблазнять. Не нужно бояться таких слов. Мы на войне, где хороши все средства, я подчеркиваю: все! А вы, Владимир Ильич! Вы берете на себя роль обличителя, старого бранчливого дядьки. По вашему, в России живут сплошь недоумки, лизоблюды, лакеи, перевертыши, прихлебатели — это ваши слова! — он потряс папкой. — Все идиоты.
— Не все, — попытался вставить Лернер.
— Хорошо, не все, а лишь интеллигенция, квалифицированные рабочие, зажиточные крестьяне, то есть как раз наша аудитория. Любимый вашему сердцу люмпен нас не слышит. А тех, кто слушает, вы обливаете помоями, отвращаете от нашего радио, от «Свободы», перечеркивая труд товарищей, усилия государства, отрывающего средства от фронта на поддержку Коминтерна. Что это? Недомыслие? Намеренность? Хочется верить, что первое…
— Но… — Лернера колотило, и когда вице-директор оборвал его, он даже обрадовался: в запальчивости, гневе, можно было наговорить лишнего. Уже наговорено…
— Я не кончил. Я вас знаю давно, Владимир Ильич. Помню и Женеву, и Брюссель. И тогда мы спорили, но споры носили абстрактный, отвлеченный характер. Теперь же иное время, поймите! — он помолчал секунду. — Думаю, происходящее — не вина ваша, а беда. Вы взвалили на себя слишком тяжелую обузу. Знаю, фактически вы выполняете втрое больше работы, чем любой в Русской секции, отсюда и переутомление, и нехватка времени обмыслить, верно оценить ситуацию, проанализировать свершившиеся перемены, скорректировать методы. Полагаю, вам стоит отойти от дел. Временно, временно. Думаю, даже можно оставить за вами «Хронику рабочего движения». И довольно. Остальное примут на себя ваши товарищи, — Лев Давидович рассеянно перебирал бумаги синей, «разносной» папки. Выдохся былой пыл, раньше любой выговор он превращал в речь, порой часовую, взвинчивая и доводя себя до слез, до истерики. Или решил не тратить пороха на отработанный материал?
— Да, и еще… Помнится, я говорил вам: стиль! Нельзя же так — на трех страницах пять раз использовать слово «архи», — он показал скрепленные листочки. — Вы же не местечковый мудрец, одолевший одну-две книжонки и перепевающий их всю жизнь, у вас университетское образование, так используйте его. Вы что кончали, московский?
— Казанский. Экстерном.
— Хоть и экстерном. Вы еще многое можете, и мы, разумеется, рассчитываем, надеемся на вас…
Дверь распахнулась широко, свободно, свой идет, — и на пороге показался юнец. Знакомая личность. Месяца два назад стажировался в Русской секции. Клейст? Фейхт? Как там его. На редкость бестолковый и самонадеянный субъект.
— Дорогой Руперт, — Лев Давидович схамелеонил на глазах: доброта, предупредительность, внимание. Патока. Тьфу. — Геноссе Штауб сообщил, что ты, может быть, успеешь зайти.
— Успел, Лев Давидович. Только сегодня с бельгийского фронта, едва переоделся — они жали друг другу руки с показной мужественностью тайных педиков.
— Я пока с твоим будущим подчиненным беседую.
Руперт Франк (точно, Франк, вспомнил), наконец, обратил внимание на Лернера.
— Мы где-то виделись, — кивнул небрежно.
— Владимир Ильич — один из опытнейших работников. Сейчас, правда, подустал, нуждается в отдыхе, но он непременно восстановится.
— Разумеется, разумеется, — рассеянно согласился Франк.
— Не будем задерживать вас. Владимир Ильич. Да! — окликнул он Лернера у самой двери. — Снижение объема работы не повлечет снижение разряда, вы по-прежнему остаетесь в категории три Б, это я обещаю. По крайней мере, на ближайшее время.
Кланяйся и благодари, благодари и кланяйся. Лернер из последних сил прикрыл дверь тихо, без малейшего намека на хлопок, не дождетесь. Как в мареве, шел он по коридору, лестнице, двору, отделяясь от всего толстым мутным стеклом, не слыша и не видя ничего вокруг.
Подлец, ах, какой подлец! Играется, как с мышью, придушенной, беспомощной мышью. Списал в балласт, в утиль, на чердак к зонтам со сломанными спицами и продавленными плетеными дачными креслами. Архимошенник! Да, архи, архи, архи! Заносчивый самовлюбленный болван, балбрисник! Ну, нет, мы еще посмотрим. Свинячим хрюкалом не вышли-с, Лев Давидович! Вы не царь и не бог, не вождь, не руководитель Коминтерна даже, а всего-навсего вице-директор. Вице! — он шел, размахивая руками, разговаривая сам с собой, то тихо, под нос, то срываясь на крик. Редкие прохожие отшатывались, жалостливо глядели вслед, принимая за пострадавшего от бомбежки, контуженного или отравленного газами.
Спокойно. Гнев — лучший союзник врага.
Лернер опомнился, разжал побелевшие кулачки, неловко потоптался на месте. Кажется, он дал волю нервам, распустился. Негоже. Куда это он забрел? Энгельсштрассе? Версты три отмахал беспамятно. Действительно, не мешает отдохнуть, восстановить силы — чтобы, вернувшись, ударить сильно и больно. Надо много силы. Отдохнуть. Съездить в зооцирк. За город. Отдыхом пренебрегать нельзя, раз уж выдалось у него свободное время, он его использует и на отдых тоже. Почему нет?
Он добрел до трамвайной остановки, стал в короткую, в пять человек, очередь. Сейчас около шести. Через час кончится фабричный день, станет куда люднее.
Трамвай подошел старый, с сиденьями, и он расположился поближе к вожатому, подальше от шумливого контролера. Коминтерновское удостоверение стоило дорогого: позволяло пойти или поехать в любой конец города, в любое время, не соблюдая часов ветеранов, служащих, фабричных, больных. Жаль, у Надюши такого нет.
Контролер громко объявлял станции, но Лернер не слушал. Задумавшись, он спохватился лишь во дворе депо, когда трамвай, скрежеща ребордой о рельс, круто завернул на отстой, освобождая путь.
— Нельзя! Запрещено! — контролер заволновался. Проглядел, завез пассажира на стратегический объект. — Документы!
Красная книжечка удостоверения выручила и на этот раз. Контролер провел его до выхода из депо.
— Следующий вагон пойдет через тридцать две минуты.
Досадно.
— Ничего, я пешком.
Лернер плохо знал этот район. Справляться о пути не хотелось, и он, желая сократить дорогу, свернул не туда, попав уж совсем в немыслимые места, о которых за десять, нет, шестнадцать лет берлинской жизни и слыхом не слыхивал. Когда он снова набрел на линию и дошел до станции, фабричные высыпали на улицы, ехать пришлось стоя, запах пота, нечистоты мучил сильнее, чем теснота, и настроение испортилось еще больше. Он-то надеялся сегодня подкатить к дому на служебном авто. И глупо, глупо! Не надеяться надо, а рассчитывать. Считать. Как станции. Иначе — пропустишь свою.
Он выбрался из трамвайной давки, отряхнулся. Дом, большой, массивный, обещал покой. Здесь и отдохнуть, и сил набраться. На четвертом этаже квартира, но стены толстые, капитальные, не слышно ничего.
Лернер заметил, как мусорщик-швайнехунд загляделся на здание. Жил в нем до революции? Может, даже в его, Лернеровской, квартире? Поймав взгляд Лернера, бывший втянул голову, сгорбился и торопливо начал подбирать мусор вокруг баков, мусор, нарочно бросаемый мимо фабричными — чтобы не забывался буржуй, помнил место.