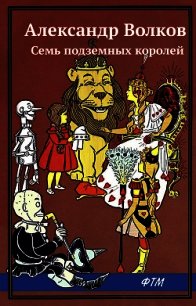Донос мертвеца - Прозоров Александр Дмитриевич (библиотека книг TXT) 📗
Остальные ливонцы играли в бирюльки. Нарезав из желтой, жесткой соломы много палочек одинаковой длины, они собирали их в пучок, ставили вертикально, отпускали, позволяя им рассыпаться в беспорядочную кучу, а потом по очереди пытались вынимать из кучи по одной соломинке так, чтобы остальные не шевельнулись. Если шевельнулась – неудачник дважды проползал на четвереньках под столом.
Русская баба по-прежнему занималась работой у печи: пекла хлеб, готовила на всех еду и разбалтывала баланду для скота. Утолив первый голод, днем, при священнике, ее больше не трогали, даже тискать давно перестали. Правда ночь, со скуки, дежурные воины по очереди забирались к ней в постель и передавали, тепленькую, от смены к смене.
Больше всех ей доставалось от Эрнста. Это именно он ухитрялся выдаивать понемногу молока от ожеребившейся кобылы, и именно он после этого просился в первую смену и по два – по три раза таранил бабу своим крепким удом. Странно как-то на него общение с кобылами действовало.
– Эрнст! – окликнул воина Флор. – Заколи последнюю свинью, разделай, располосуй мясо на полосы и выложи на мороз. Завтра выступаем. До утра как раз промерзнет, с собой возьмем.
Ливонец, кивнул, поднялся. За ним увязались еще двое – помогать. И не удобно одному, и им хоть какое-то развлечение.
– Значит, говоришь, во дворе обязательно рыбку надо иметь? – вернулся к разговору с девочкой Флор. – А какая тебе больше нравится? Щука или лещ?
– Судак! – уверенно ответила девушка. – Папа завсегда ловит судака!
Касьян все эти дни промаялся во дворе. Иногда он пытался ухаживать за скотиной, иногда в бессилии метался от стены к стене или, уткнувшись лбом в сложенные руки, молча лежал на сеновале. Несколько раз, прихватив вилы, он пытался войти в дом, но каждый раз протянутая к двери рука немедленно немела, и он так ни разу и не смог дотянуться до ручки.
Иногда к нему выходила Лада. Она ничего не рассказывала, только тыкалась ему в грудь головой и плакала, а потом уходила назад. Приносила немного мяса, чищеной моркови, хлеба для ребеночка. Ничего не понимающий сынок время от времени начинал хныкать, но размоченный в молоке и завернутый в тряпочку хлеб поглощал исправно, только давай.
У Касьяна все чаще возникало у него ощущение, что вот так: он во дворе, а Лада в доме с чужими мужиками, они жили всегда, а воспоминание о былом счастье – это всего лишь давнишний сон, несбыточная мечта приравненного к дворовой скотине бесправного раба. Когда однажды не обращающие на него никакого внимания воины вошли во двор, настежь распахнули в снежную зиму ворота и принялись седлать лошадей, он просто не поверил происходящему. Молча ходил за ними по пятам и смотрел, смотрел, смотрел, не доверяя своим глазам.
Ливонцы вывели своих коней, перекинули чересседельные сумки, один за другим поднялись в седла. Последним вышел из дома худощавый человек в плаще, забрался на пегого ширококостного жеребца и, не произнеся ни звука, повел свой маленький отряд вниз по реке. Спустя полчаса последний из незваных гостей скрылся в ельнике, под который подныривала узкая в этом месте Черная.
Касьян неуверенно поднялся на крыльцо, на котором, с таким же неверием во взгляде, стояла Лада, потрогал дверь. Ничего. Рука больше не немела, пальцы уверенно обнимали рукоять. Он открыл дощатую створку, закрыл. Снова открыл, и снова открыл. Ничего…
– Мама, а когда дядя Флор снова приедет? – подергала Ладу за рукав дочка.
Женщина внезапно разрыдалась, закрыла лицо руками, кинулась в дом. Касьян вошел следом и начал бродить по комнатам, не в силах отделаться от чувства, что не видел их уже много, много лет. Потом вспомнил про распахнутые ворота двора и заторопился закрыть скотное помещение от уличного мороза.
Лада находилась там. Она уже успела перекинуть вожжи через потолочную балку, надеть себе на шею петлю. Увидев мужа, торопливо отпихнула из-под ног пустой бочонок, повисла на слегка подпружинивающих ремнях – но Касьян успел, схватил, крепко обнял. Потом приподнял, снимая петлю и унес в дом.
Женщина проплакала весь день – и весь день муж не отходил от нее ни на шаг, сопровождая даже в нужник. К вечеру Лада все-таки немного успокоилась, впервые заговорила с дочкой и сама покормила младенца размоченным хлебом.
Ночью в Замошье пришли волки. Стая в полтора десятка голов ходила от сруба к срубу, громко выла под затянутыми бычьим пузырем окнами, пыталась подрыться под дом и грызла закрытые на прочный завор воротины двора. Но впервые за время из супружества Лада не только не испугалась – вовсе не обратила внимания на злобных лесных хищников.
В родном краю воин втрое сильнее, нежели на чужбине. И не только потому, что дом родной защищает, за каждый кустик, за каждую травинку душа болит. Еще – здесь каждый знал, кто такие бояре, ради чего они на свете живут, ради чего их земля родная кормит, за что пахари им труд свой отдают, а царь никакого тягла не требует. Зализе не нужно было думать ни о раненых и увечных, ни о павших, ни о еде и лошадях. И в Бору, и во Гдове жители приняли в свои дома воинов, кровь за отчину свою проливших, отпели погибших, не пожалели ни сена и овса боевым коням, ни тепла и снеди для ратников. А потому уже на следующее утро после сечи на Чудском озере кованая конница опять легко, словно на крыльях, помчалась по родной стороне, не волоча за собой, словно повешенные на ноги колодки, тяжелого неуклюжего обоза.
«Нужно сидеть на холме и отдавать приказы, – укорял себя опричник, скача вслед за влекомыми четверкой коней санями. – Сидеть за спиной других, и ни в какую сечу не соваться!»
Во Гдове, прежде чем лечь в постель, он снял юшман, войлочную рубаху, байдану и толстый кожаный поддоспешник, надетый на нательную косоворотку. Вся грудь имела цвет спелой сливы, левое плечо – цвет пареной репы, а правый локоть оказался розовым, как недозревшая малина.
Не везло ему в этом году. То за все казанские и тульские кампании ни одной царапины не получил, а тут, в дикой Северной Пустоши: уже и горло успели проколоть, и тело все исколотить, и бессознательным несколько раз повалялся. Нет, больше никаких сшибок!
Однако Зализа прекрасно понимал, что когда дело дойдет до новой схватки, подать команду: «Вперед!» духу у него ни за что не хватить. Потому, что кричать: «За мной!» честному воину всегда намного легче.
– Грустишь, боярыня? – вошел в светелку к Юле Варлам Батов и остановился в дверях.
– Нет в мире справедливости, – покачала головой та. – Ты, вон, скачешь, как конь, хотя неделю назад «мама» сказать не мог, а я лежу, как последняя дура.
– Рана твоя почетная, потому, как в честной сече ты ее…
– Только не надо «ля-ля», – остановила его спортсменка. – Кабы в «честной сече»! А то свои чуть не насмерть затоптали…
Сын Евдокима Батова тряхнул рыжей головой. Своими иногда непонятными, иногда странными высказываниями иноземка успела распугать всех баб и девок, и теперь лежала одна: ей разве что снедь четыре раза в день заносили, да и то с опаской. Однако было в ней нечто…
– Тут еще пока нога заживет, ребра все переломаешь, – ворчливо добавила спортсменка, тыкая локтем в застеленный простыней тюфяк. – Камнями вы их наполняете, что ли?
– Сено скомкалось, – покачал головой воин. – Поменять его нужно. Я передам.
– Тогда еще ладно, – кивнула Юля. – Только не забудь! У меня уже вся спина в синяках.
– Желание придумала, боярыня?
– Придумаешь тут! – возмутилась лучница. – У меня болит все, кроме левой пятки, к вашему сведению! А пятка не болит лишь потому, что я ее не чувствую!
– Государев человек с ратью от Гдова вернулся, собирается вниз по Луге идти. Я ноне в силе, завтра с ним отправлюсь.
– Счастливчик, – Юля попыталась было привстать, но без сил откинулась назад. – Ты бы знал, как мне надоел этот перелом!
– А хочешь, – неожиданно предложил он, – замуж тебя возьму?
– Замуж? – растерялась спортсменка. – Почему?