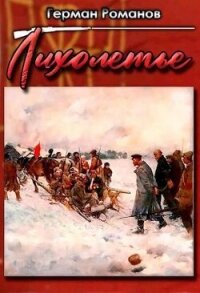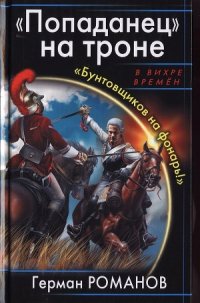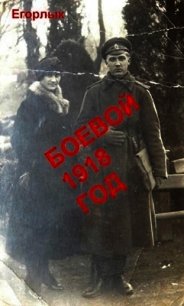Попаданец на гражданской. Гепталогия (СИ) - Романов Герман Иванович (полная версия книги .txt, .fb2) 📗
— Господин ротмистр, а какую песенку вы поете, — услышал Костя голос хорунжего, — и что это значит — с огнем большевицким в груди…
— Есть у коммуняк песня про юного барабанщика. Подрос потом, паскуда, и принялся «стучать» дятлом на всех. Примером нашего Павлика…
— Какого Павлика? — недоуменно спросил Пляскин. — И при чем здесь дятел?
— Не бери в голову, бери на метр ниже. Я вот сейчас большевика в себе возгорю, искру из пламени высеку, как они говорят, и пойду с нашими дорогими америкосами общаться. Пусть они тоже большевизма отведают по самые гланды, чтоб до самой задницы пробрало. Поздравлю их с Мэри Крисмасом, с Рождеством Христовым, если по-нашему. А ты, Григорий Никифорович, наши купюры выбери с этой бумажной груды да купи на них самогона покрепче, позабористей. На все денежки.
— Тут же сотне упиться можно в черную, Константин Иванович! — Пляскин пропустил мимо ушей непонятный монолог про большевиков и американцев, но вот слово «самогон» казак услышал прекрасно, а потому свои выводы сделал мгновенно.
— Пить эту гадость категорически запрещаю. Отберешь десяток надежных казаков, и пусть этот самогон в американцев вливать начнут сразу после моего выступления перед союзниками.
— А что вы им говорить будете, господин ротмистр?
— Что их дома мазеры и герлы ждут, все глаза проглядели. Что здесь ненужная для них война, тем паче за интересы воротил с Уолл-стрита, и что президент Вильсон принял решение вывести американские войска из Сибири в январе следующего года, а их генералы резину тянут, ибо бабла зашибить хотят побольше. И потому гибнуть им в последние дни просто глупо, тем более из Архангельска американцев еще в сентябре вывели…
— Это же большевизм! — потрясенно сказал Пляскин, оторопело глядя на ротмистра. — Откуда вы это знаете?! Это же наши союзники!
— Эти союзники, Гриша, оружие партизанам передают, за их деньги нам здесь революцию устроили. И потому разложить их морально надо, чтоб в спину ножом не ударили, когда мы за туннели бронепоезда выведем, — Костя был предельно откровенен, хотя главного не сказал.
— А потому, Григорий, этой ночью они мне здесь нужны поголовно пьяные. А наши казаки должны быть в трезвом уме. Ну что, найдешь парней, что две сотни американцев споить смогут? Или нет таких на примете у моего адъютанта? Может, мне к контрразведчику обратиться за помощью…
— Ага, — только и выдохнул Пляскин и всей пятерней почесал затылок. Потом его лицо неожиданно прояснилось, будто открылась для него какая-то истина, и хорунжий хмыкнул:
— Казаки такие есть, Константин Иванович. Сейчас к ним побегу, да самогон скупать начнем, — и хорунжий стал лихорадочно отбирать в денежной груде русские купюры — сторублевые «Катьки» и пятисотрублевые «Петры». И сразу напомнил Ермакову приснопамятного Михаила Самуиловича Паниковского (человека без паспорта, которого сыграл Зиновий Гердт), когда тот лихорадочно тасовал купюры.
«Ой, как дети малые! На вас большевистская демагогия еще действует, а для меня это уже давно детский лепет! Закалка-то у меня ого-го! Уши луженые от краснобайства депутатов с кандидатами! — отправив Пляскина, Костя застегнул шинель. — Надо идти разлагать американцев грязными методами политтехнологий, благо повод хороший, с Рождеством поздравить. Применить, как говорится, на практике полученный опыт гнусной пиарщины!»
Но думал уже не о них, а совершенно о другом. Три часа назад он написал две телеграммы — в Читу атаману Семенову и в Нижнеудинск адмиралу Колчаку. Процесс оказался простым — набросал текст, дал посмотреть начштабу, затем отдали бумаги шифровальщику в соседнем вагоне, а через час телеграфист, в том же вагоне, но в другом купе, отстучал ее по адресатам.
Оказывается, дивизион прекрасно обеспечивался связью, которая шла вдоль всей железной дороги. Как говорил Остап Бендер — телеграф везде наставил своих столбов. Проще простого — подогнали поезд на крайний путь, связист напрямую подключился к проводам, и можно говорить или по телефону с близлежащими станциями, или вести переговоры по аппарату Бодо с дальними станциями, или отправить телеграмму за тридевять земель, лишь бы там адресат был известен.
Отправить-то отправил, но только на душе черные кошки своими когтями скребли. Чистейшая авантюра и немыслимая по здешним меркам наглость. И потому спрашивать Акима Андреевича о том, был ли ответ, Костя не стал — давно бы связист прибежал…
Нижнеудинск
— Какое нелепое название — Нижнеудинск. Милый мой Александр Васильевич, — светловолосая милой наружности женщина повернулась к адмиралу Колчаку лицом, чуть прикоснулась своей теплой ладошкой к его чисто выбритой щеке.
Любовь нечаянная, как сладок и тяжел твой хрупкий обруч, что лег на них сладким бременем год назад. Любовь, затронувшая души в кровавой круговерти гражданской войны. Ему же только сорок семь, и сердце жаждет любви…
Стук в купейную дверь безжалостно вырвал у адмирала руку желанной женщины. В жизнь снова ворвалась война, не желая давать ему даже минуты на горькое личное счастье. И не иначе — ни Трубчанинов, ни Удинцев не стали беспокоить Верховного Правителя сейчас, зная, что он там вместе с Анной Васильевной. Это война пришла, вновь призвала его, не дает уйти, преследует даже сейчас, здесь, в тишине, в присутствии любящего его женского сердца…
— Войдите, — спокойным голосом сказал адмирал, сделав долгую паузу, давая время ей собраться.
Его Анна Васильевна только улыбнулась и, открыв дверь во вторую половину его двойного купе, ушла туда, тихо притворив за собой. А дверь в коридор раскрылась, словно адъютант поджидал этого.
— Извините, Александр Васильевич. Только сейчас расшифрована телеграмма из Слюдянки, это на Кругобайкальской железной дороге, от командира дивизиона броневых поездов ротмистра Арчегова. Я не хотел вас беспокоить, но ее текст очень важный, — и лейтенант протянул Верховному Правителю листок бумаги.
— «С тремя бронепоездами и отрядом в 300 штыков прибыл на станцию Слюдянка, — медленно и глухо стал читать адмирал Колчак, — имею приказ атамана Семенова далее идти на Нижнеудинск. В Глазково восстание, власть взял эсеровский Политцентр, поддерживаемый чехами за отгрузку черемховского угля. Ледоходом сорван понтон, все ангарские пароходы захвачены чехами. Попытка обстрела мятежных казарм пресечена генералом Жаненом, заявившим о недопустимости обстрела желдороги и ответном огне чеховойск в случае непослушания русских властей», — адмирал оторвался от телеграммы, достал платочек и вытер капли пота. Затем взял листочек в руки и продолжил чтение.
— «Американские части выдвигаются к Кругобайкальским туннелям для их занятия. Перебрасывают пехоту на станцию. Принял меры к воспрепятствованию, в Култуке оставляю «Беспощадный». Приказаний от атамана Семенова получить не могу, связи нет. Мобилизую в Порту Байкал суда, организую флотилию, призову морских и военных чинов для движения на Иркутск и переправы надежных войск для подавления мятежа. Сам двинусь на Иркутск 29 декабря. В этот день атакую Глазково — промедление смерти подобно. Прошу ваше высокопревосходительство отдать мне необходимые распоряжения по Бодо. Буду на станции до 21.15, снимаю связь и ухожу в Порт Байкал. Ротмистр Арчегов».
— Это что за бред? — Колчак недоуменно пожал плечами. — Какой Политцентр? Что за восстание…
— Ваше высокопревосходительство, — в коридоре застучали шаги, и перед дверью встал задыхающийся премьер-министр Пепеляев. Он хрипел, не мог больше сказать слов и держался ладонью за левую половину груди. Но через минуту Виктор Николаевич отдышался и заговорил:
— В Глазково восстание. Склады на Батарейной захвачены. Я только сейчас говорил с Червен-Бодали…
— Прочитайте это, Виктор Николаевич, — Колчак протянул ему телеграмму Арчегова. Председатель Совета министров впился в нее глазами и скорее не прочитал, а проглотил написанные слова. Побледнел, смертельно побледнел и потрясенно прошептал: