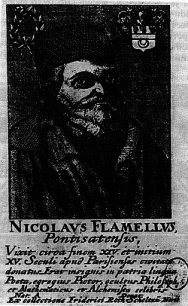Седьмая часть тьмы - Щепетнев Василий Павлович (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
23
— Ты, душенька, иди… отдохни, знаешь… — Гагарин постарался успокоить жену.
— Как он мог! Как он мог сказать такое! — жена покраснела от гнева и негодования.
— Смог, видишь, — Гагарин выключил аппарат, музыка, сменившая трансляцию с нобелевской церемонии, погасла вместе с зеленым глазом настройки.
— Но ведь это… неправда?
— Ну разумеется, душенька. Абсолютная ложь.
— Что же ты теперь будешь делать?
Гагарин понял, что жену волновало не содержание речи Вабилова, а то, как это отразится на его, Гагаринской карьере. Умница, хоть и дура.
— Не тревожься, душенька. Мы наведем порядок. Никому неповадно будет повторить этакое. Ты отдохни, — повторил он.
Жена ушла, поняла, что мужу надо работать. Последнее время все чаще и чаще он ложился заполночь, и она привыкла к этому. То есть не привыкла, но притерпелась, правда, стала больше есть сладкого, набрала вес, но такова, похоже, судьба всех жен людей власти.
Гагарин поудобнее устроился на диване. Народ требует, господа. Возмутительнейший случай. Беспрецедентная наглость зарвавшихся индивидуалистов. Что-нибудь в этом духе. Предварительной цензуре в России — быть. Завтра сенат утвердит временное положение. Сенату многое, многое придется утвердить, — Гагарин постучал по дереву. Он не был суеверным, но — на всякий случай.
Телефонный звонок застал его у глобуса, на котором он разглядывал Североморск, оттуда с минуты на минуту должен был отправиться отряд дирижаблей.
— Гагарин слушает!
Сбивчивый, взволнованный голос сообщил о покушении на Государя.
— Он жив?
Этого звонивший не знал. Спешил срочно доложить.
— Хорошо, выезжаю, — Гагарин посмотрел на часы. Да, именно сейчас дирижабли поднимаются в воздух. Перелет через Северный полюс. Американцы и помыслить не могут о возможности атаки с севера, все их силы стянуты к Атлантическому побережью. То-то удивятся.
Он надел мундир, простой, непарадный, пусть видят — он тоже солдат.
В тяжелые времена все — солдаты.
24
— Я скоро, — бросил Семен водителю. Тот молча приложил руку к козырьку форменной фуражки. Нынче я барин.
Портье за стойкой виновато развел руками:
— Сегодня для вас ничего нет, мистер Блюм.
— Пишут, — утешил его Семен.
Старый лифтер поднял его на свой этаж — дом претендовал на аристократичность, служащие носили подобие ливрей, и Семен чувствовал себя опереточным самозванцем, Мойше в гостях у графа, с переодеваниями и фарсом в антракте.
В своей квартире, приличной даже по меркам этого района, он не чувствовал себя дома. А где чувствовал?
Привести в порядок дела, так. Семен рассеянно прошел по комнатам, пытаясь понять, есть ли у него подобные дела. Сесть и написать завещание: «Находясь в трезвом уме и здравой памяти, я, Семен Блюм…» Завещать-то особенно нечего. И некому.
Барсик неспешно соскочил с кресла, подошел и потерся о ноги. Ну, о тебе, дружок, позаботятся. Соседка, которая в его отсутствии присматривала за котом, не даст пропасть красавчику. Он открыл холодильный шкаф, поискал на полках. Пакет молока был третьедневный, но Барсик не побрезговал, начал лакать.
Еще дела?
Нехотя он сел за письменный стол. Здесь он почти не работал, никаких архивов, теорем на полях книг, рукописей.
Из нижнего ящика правой тумбы он достал пакет с письмами. Тонкая стопочка, от близких из России.
Он не стал перечитывать их, и так знал наизусть. Веселого в них было мало, хорошего еще меньше, но хуже всего — что писем в последнее время не было вообще.
Рядом стояла машинка, специально предназначенная для уничтожения документов, но единственное, что он мог сделать для тех, кто ему писал — это порвать листы руками. Писались письма ему, и Семену не хотелось, чтобы кто-то иной интересовался ими. Хотя вряд ли найдется такой. Просто — выбросят.
Он собрал клочки в мусорную корзину, теперь это уже были не письма, почесал урчащего кота за ухом и решил, что все дела улажены. Пора ехать на пристань, где его ждет старушка «Маккаби».
25
— Сейчас полегчает, — сестра выпустила из шприца пузырек воздуха и быстрым движением вонзила иглу под кожу. Евтюхов поморщился. Устал он. Ему бы тишины, покоя, отлежаться. Все эти уколы — зря. Докторам почему-то кажется, что без уколов нельзя. Вовсе ему и не плохо, просто какое-то ощущение грязного в животе и у поясницы. Словно крысиное гнездо там.
— Видишь, уже лучше. Поспи, — она прижала к месту укола ватку с эфиром. От запаха голова кружилась, казалось, он все еще едет — на паровичке, мерно убаюкиваемый пружинными растяжками, на поезде, в санитарном вагоне, другие раненые и стонали, и матерились, он среди них стал чувствовать неловкость за то, что без боли живет, потом, на вокзале, когда выносили его на носилках, кто-то в спину прокричал гада и сволочь, за то, должно быть, что первым выбрали; а когда обступили его газетчики, затрещала камера, для синемы снимали, он подрастерялся, ну, как разоблачать начнут, притворой объявят, но вышло совсем напротив, его называли героем, хвалили за воинский дух и желали поскорее вернуться в строй, он, не будь дурак, только и твердил о том — в строй, в строй вернуться надо. Не убудет, а начальству приятно. И повезли его в госпиталь прежде всех, и уложили на лучшее место.
— Что больной? — голос нового доктора усталый, тяжелый, трудно им всем.
— Уснул.
С чего это они решили, что уснул? Евтюхов хотел возразить, вдруг важно для медицины, но не смог. И глаза не открывались.
— Готовить к операции? — медицинская сестра тоже уставшая.
— Нет. Не будем мучить. Пуля проросла, шансов нет. Лишь ускорим смерть. Он как, жалуется на боли?
— Нет.
— Из крестьян. Среди них терпеливых много. И первую помощь оказали неплохо. Даже совсем неплохо. Нужно будет похлопотать, чтобы к нам перевели.
Они начали обсуждать какие-то свои дела, и Евтюхов потерял нить разговора. Да и о чем до этого говорили, понималось смутно. Какой-то тяжелый у них больной, похоже. Не повезло бедолаге. Бывают такие, что не делают — не везет. Ханжи достанут — так старшина накроет. В отпуск домой поедут — так жена с прибытком. Вон, в соседней роте с Сидоркиным случилось. Он контуженый, взял, да забил бабу до смерти. Теперь в штрафнике воюет, вину искупает. Нет, раз уж случилось такое, ну, брось ее, слова никто не скажет, много их, баб, нынче, хватит на фронтовика. Думалось об этом отстраненно, холодно, уверенность была — с ним такого не будет. Матрена его ждет. Когда бумага пришла — убивалась. Хотела, чтобы откупился он. Можно было откупиться, волостные брали, но когда писарь цену назвал — ясно стало, не для него. За год работы едва-едва выручил он столько. Отдать — а самим Христовым именем кормиться? Это раньше подавали, говорят. В стародавние времена. Нынче с голытьбой разговор короткий — на чугунку, прокладывать пути. А оттуда в армию мигом. За что ж платить? Писарям раздолье, конечно. Лопаются с жиру. Все, кто в комиссиях по призыву, в раздолье живут. И судят их, и вешают, случается — а новые еще отчаяннее рвут.
— Ты проследи, чтобы со склада все добрали. Со дня на день поток пойдет.
— Наступление?
— По всему видно, да. Приказано — команду выздоравливающих оставить, в помощь, остальных — в тыл.
В тыл — это куда же? Разве Кишинев — не тыл? Ефрейтор краем глаза видел город из санитарной повозки. Окна разве бумажными крестами перечеркнуты, а так — благодать. Штефан Челмар с крестом благословляет на ратный подвиг. Рисунок этот он несколько раз встречал во фронтовой листовке, и потому памятник узнал сразу.
— Может быть, уже завтра мы будем заполнены так, что прошлое, майское наступление покажется пустяком.
— Не хотелось бы.
— Еще бы. Хорошо, сегодня есть возможность держать этого раненого отдельно. Когда наркотики окажутся бессильными, боль будет нестерпимой. Подлое оружие.