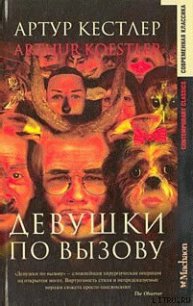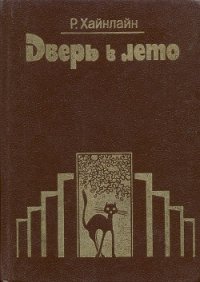Призрак грядущего - Кестлер Артур (список книг TXT) 📗
— О, Боже! Всегда притворялась, будто читала. Лучше сами расскажите мне, что он писал о парижских бистро.
— О парижских бистро — ничего. Но он объяснял законы эволюции вкусов у правящих классов. Пока определенный класс, скажем, капиталистическая буржуазия, занят накоплением богатства, его представители соревнуются в тратах и мотовстве, чтобы произвести друг на друга впечатление. Но когда класс совсем разбогатеет, его представителям уже нет нужды доказывать, насколько они богаты, и роскошествуют только те, кто на самом деле не богат, но жаждет казаться таковым, или кто совсем недавно приобрел богатство. Так что на этой стадии роскошь кажется вульгарностью, и Рокфеллер влачит аскетическое существование. Вот и вы приучены считать, что это и есть культурность, и что такие старые, грязные ресторанчики хороши именно своей стариной и грязью.
Хайди засмеялась.
— Кое-что из того, что вы говорите, верно, но лишь частично. Как скелет — только часть правды о человеке. Бистро, к примеру, не только стары и грязны — им присуща особая атмосфера.
— О, да, атмосфера. Атмосфера бедности, «простонародья», мелкой буржуазии — вы-то сами принадлежите к крупной буржуазии, и вам можно играть в Га-рун-аль-Рашида. Вы посещаете бистро, подобно туристам, устремляющимся на Восток.
Больше всего ее задевало то, что в его тоне не было агрессивности, напротив, в нем слышалась мягкая ирония, словно он снисходил до нее с высоты неприступной крепости своей веры. Ей оставалось с завистью взирать на него снизу вверх, ежась от холода и неуверенности, как все те, кто живут вне ее стен.
— Вы позволите мне заказать ужин? — спросила она. — Еда тут по крайней мере хороша, и я знаю их коронные блюда.
Он добродушно согласился, как взрослый, уступающий детской причуде. Она заказала устрицы в вине, омлет и телячью голову в уксусном соусе. Хозяин, угрюмый толстяк, пожал им руки, желая, видимо, оказать Хайди особую честь.
— Вы чувствуете себя очень гордой и демократичной, — произнес Федя с улыбкой, когда хозяин отошел.
— О, вы всегда все испортите! Почему?
— Потому что я не одобряю ложных чувств.
— Что же ложного в том, что мне нравится толстый patron? Видели бы вы его жену! Она еще толще, а грудь у нее задрана чуть ли не до плеч.
— Вы бы пригласили их к себе на вечеринку?
— Они не подошли бы к компании, но это тут совершенно ни при чем.
— Значит, они вам на самом деле не нравятся. Она в отчаянии пожала плечами.
— В такой игре вам нет равных.
— В какой игре?
— Вы отлично ловите человека на слове.
— Не понимаю. Если вас подловили в борьбе, вы проигрываете.
— Но я не хочу с вами бороться.
Он бросил на нее памятный кошачий взгляд.
— Что же вы хотите со мной делать?
— Бог его знает. Лечь с вами в постель, наверное,
вот и все.
Наконец-то она испытала удовлетворение, видя, как он шокирован. Он вылупил глаза, и на его щеках проступили веснушки — так он, по-видимому, краснел.
— Теперь вы наверняка сочтете меня страшно «некультурной», — ядовито добавила она, уже готовая перейти к обороне и снова напялить маску послушной ученицы, если только представится такая возможность. Ее успокоил неожиданный огонек понимания в его глазах; он решил очередную загадку, и все снова встало на свои места.
— Не некультурной, а просто немного испорченной, — ответил он на ее последнее замечание. — Это и есть фривольность праздного класса. Вы говорите такие вещи, подобно тому, как дети произносят грубые слова, не понимая их смысла.
Хайди не стала развивать эту тему. Тут как раз подоспели устрицы. Она ощущала внутри себя пустоту и, следовательно, сильный голод. Она мысленно взмолилась, чтобы он не пригвоздил поедание устриц как испорченность пли некультурность, но они ему как будто понравились. У них был волшебный вкус чеснока и чего-то еще.
— Вам нравятся устрицы? — осторожно осведоминась она, не желая вновь ступать на зыбкую почву.
— Очень хорошие! Французы их любят, — вежливо добавил он.
— А какие блюда любите вы?
Его лицо просияло.
— Шашлык, шушкбаб. А напоследок — немного рахат-лукума, — стыдливо признался он.
— Так вы с Кавказа?
— Откуда вы знаете?
— Все знают, что шашлык — кавказское блюдо.
— Я родился в Баку. В Черном городе. — Он как будто слегка оттаял от крепкого рейнского вина, поданного к устрицам.
— Вы мне расскажете немного о своей жизни? — робко спросила она.
— Это неинтересно.
— А мне интересно! У меня нет ни малейшего представления о жизни по ту сторону.
— Наши люди самоотверженно трудятся и счастливы, что строят будущее.
— Аминь. Теперь расскажите о себе.
Он поставил рюмку, отодвинул тарелку и посмотрел на нее, со смешным выражением лица приглаживая непослушные волосы — высохнув, они топорщились, как швабра. Хайди внезапно поняла, чего недоставало его лицу: мягкой черной кепочки, которую он мог бы сбить на затылок или надеть набекрень — в зависимости от настроения.
— Это не очень интересно, — повторил он. — Мой дед был выходцем из угнетаемого национального меньшинства — армян. Он был ремесленником. Так как он был из угнетаемого меньшинства, то вся его семья погибла, и ему пришлось бежать. Отец принадлежал уже к революционному пролетариату и был убит контрреволюционерами. Мать жила в бедности и невежестве, как все женщины Востока, а после заболела и умерла. Потом, во время Гражданской войны, я вместе с дедом пробрался из Баку в Москву и там стал учиться в школе. Вступил в молодежное движение, потом — в партию. Когда богатые крестьяне воспротивились коллективизации с целью торпедировать пятилетний план, я был мобилизован партией и направлен обратно на Кавказ, чтобы помочь сдаче урожая, необходимого для городских рабочих, занятых индустриализацией. После этого партия послала меня в университет, после же университета я занимался различными делами на культурном фронте…
Он одарил ее лучезарной улыбкой, словно дядюшка, порадовавший ребенка подарком. Хайди покрутила в руках рюмку.
— Теперь я все о вас знаю! — радостно воскликнула она.
— Да.
— Что вы изучали в университете?
— Историю, литературу, диамат и вообще культуру.
— Что такое «диамат»?
— Диалектический материализм. Это наука об истории, — терпеливо пояснил он.
— Это ваша первая заграничная командировка?
— Я бывал и в других странах, — туманно ответил он.
— И что вы там делали?
— Работал в культурных миссиях, как и здесь… Теперь ваш черед обо всем рассказать.
— Идет. Я родилась в среде загнивающего правящего класса; с материнской стороны мои родичи были ирландскими землевладельцами-кровопийцами, с отцовской — наемными вояками из Вест-Пойнта. Разложение буржуазного общества довело мою мать до алкоголизма, а отца — до донкихотской мании спасения Европы, меня же — до врат католического монастыря… Теперь и вы все обо мне знаете.
— Да, — великодушно согласился Федя. — Знаю — не все, но многое, хотя вам казалось, что вы просто шутите. Вы, выражаясь вашими словами, нарисовали скелет — но, зная скелет, можно представить себе все животное.
— Одно «но», — возразила Хайди. — Скелеты вечно ухмыляются. Вы тоже умны и «культурны», но ваша культура — это какой-то скелет: сплошь оскаленные зубы и выпирающие челюсти.
— Почему вы ушли из монастыря? — спросил Федя, с улыбкой отметая ее последнее замечание.
— О-о… обычные причины. Мне не хотелось бы об этом распространяться.
— Почему?
— Если бы вам пришлось покинуть свою партию, стали бы вы об этом разглагольствовать за омлетом?
Федя усмехнулся.
— Это разные вещи. Партию не покидают. А ваш монастырь — вы ведь знаете, что все это суеверия…
— Если бы вам открылось, что и партия — сплошное суеверие, разве вы бы ее не оставили?
Он продолжал улыбаться, но улыбка теперь выходила пресной.
— Вы рассуждаете о вещах, в которых не разбираетесь. Я спросил: почему вы ушли из монастыря?