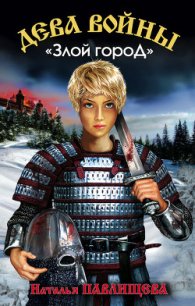Кровь и пепел - Павлищева Наталья Павловна (читаемые книги читать .txt) 📗
Это что же получается? Священники убеждали народ в том, что настают времена, когда само сопротивление – зло, потому как за грехи тяжкие отвечать все равно надо. Я пыталась сообразить, сильная Рязань сопротивлялась пять дней, Владимир, Москва, да все крупные города стояли недолго. А маленькие вроде Козельска? Конечно, у Козельска отменная крепость, но сопротивляться она будет еще и потому, что Анея наверняка вытурит Иллариона. Действительно, почему большие сильные крепости пали легче маленьких? Может, Анея все же права и дело во внушении? В Рязани татары убьют всех, кто спрячется в Успенском соборе вместо того, чтобы сражаться на стенах. Во Владимире – также. В Киеве Десятинная рухнет, погребя под собой находившихся там людей. Стало страшно – соборы становились братскими могилами для тех, кто искал в них последнее убежище? А где были настоятели этих соборов, епископы, тоже гибли вместе с прихожанами или успевали удрать заранее?
Я пыталась вспомнить, погиб ли в Рязани епископ вместе с княжеской семьей и другими в Успенском соборе, и не могла. В летописи ничего об этом не говорилось? Или Андрей пропустил столь важную деталь?
В собор пришла вовремя, как раз начиналась служба. Встала потихоньку, стараясь вести себя незаметно, слушала. Народу в соборе было не слишком много, еще не пришло время, когда на службы будут ходить непременно и всей семьей. И вот дождалась, после положенных слов епископ начал вещать о приходе безбожных татаровей и грядущем наказании за грехи тяжкие. И ни слова о возможной защите города, все о погибели и наказании…
Я попыталась попасть на глаза епископу, чтобы хоть как-то привлечь его внимание и напроситься на разговор. Не удалось, епископ двигался мимо, осеняя крестом всех подряд и словно не видя никого, просто совершал положенные движения будто во сне.
– Святой отец, мне поговорить надо.
– Это вон к нему, – кивнул на какого-то служку епископ и проплыл себе дальше.
Ну и хрен с вами! Без вас найдется кому сказать, пуп земли тут нашелся, мы до простых смертных не находим нужным снисходить. Нет, в тринадцатом веке священники были куда хуже, чем в двадцать первом. Правда, я и в свое время не слишком часто ходила в церковь, но тут просто безобразие. И пожаловаться некуда, он сам себе начальник. Или над ним есть кто-то? Над козельским Илларионом точно есть, а над этим? Наверное. Тоже, сидит где-нибудь в Константинополе такой же вот важный и надутый и думает только о том, как бы поскорей отвязаться от всяких там мирян, паствы, чтоб бросила монетку в кружечку и отвалила со своими проблемами!
Пока я мысленно обличала негодное поведение местного служителя церкви, сама служба закончилась. Но я и тут оказалась невольной свидетельницей интересного разговора, который не сразу поняла.
Говорили двое, один, постарше, старался быть строгим, по голосу я поняла, что это и есть епископ, который только что взывал к смирению и покаянию, голос второго не знаком. Из слов епископа следовало, что он поторопится, а уж князь, как господь даст.
Я не придала значения невольно подслушанному, пусть торопится, я не против. А вот выйдя из собора, возмутилась, потому что местный юродивый (блаженный, как говорили здесь) Михалка, трясясь и подвывая, вещал о скором конце света и о том, что православным самое время каяться и молить об отпущении грехов. Вообще-то он повторял сказанное епископом, да и Илларионом в Козельске – про безбожных моавитян, про кару небесную (и как им не надоедает с утра до вечера одно и то же?)… Но если священника слушали еще молча, то дикие рыдания обвешанного тряпьем и покрытого струпьями (и почему нежелание мыться и вести нормальный образ жизни считались чуть ли не подвигом?!) давно не чесанного мужика вызвали ответные рыдания у нескольких женщин.
Так… представление началось? Действительно, вокруг собиралось все больше народа, люди кивали друг дружке, мол, верно Михалка говорит, грешны мы, так грешны, что и подумать страшно. И за всякий грех наказание должно быть. И тут я не вынесла:
– А дети малые?
– Что дети? – обернулся ко мне крепкий мужичок в тесном тулупе, который никак не сходился на его пузе.
– Дети малые чем грешны, что тоже погибать должны?
Я заметила, что к моим словам прислушались, правда, не только горожане, прежде всего «несчастный» юродивый, вроде увлеченный своими собственными восклицаниями. Михалка отреагировал раньше остальных, заорав благим матом:
– Все грешны! Все! Все пред Богом грешны!
Правда, одна из женщин поближе ко мне усомнилась:
– Дети-то малые чем?
Теперь внимание Михалки переключилось уже на нее, юродивый вцепился в платок женщины своими костлявыми неимоверно грязными пальцами и принялся выплевывать обвинения ей в лицо, причем именно выплевывать, потому что из-за отсутствия половины зубов у него вместе с криком вылетала изо рта слюна:
– Греха своего не признаешь?! Каяться не желаешь?! Господь тебя первую поразит! Господь все видит!
Как же мне хотелось либо встряхнуть этого гада изо всех сил, либо вообще швырнуть в сугроб, чтоб хоть снегом помылся, что ли! Но я уже поняла, что стоит мне только произнести еще слово, и его костлявые пальцы вцепятся уже в меня, и оторвать их я уже не смогу. Михалка обладал неимоверной силой, и она совершенно не была связана ни с прозорливостью, ни с внутренней силой, я успела уловить его цепкий, злой взгляд, не имеющий ничего общего даже с трансом. Вся его трясучка была не больше, чем умелой игрой, а рыдания и вопли – спектаклем. Хотелось спросить: на кого работаешь, гад? Но чего уж тут спрашивать, и так ясно…
Мужик с большим животом оглянулся на меня:
– Шла бы ты, девонька, вон как Михалка за тобой наблюдает. Не к добру…
Вот это я заметила уже и сама. Да… контакта с местным представительством православия явно не получалось… Я ничуть не сомневалась, что все, что делает и говорит Михалка, утверждено самим епископом.
Что ж, Анея права, и делать здесь мне больше нечего, надо только предупредить, чтобы Степан не уехал без меня. Дед Ефрем, услышав, что мне нужно в посад, категорически воспротивился:
– Одну не пущу! Анея Евсеевна мне поручила за тобой смотреть, потому пойдем вместе!
– Ну, пойдем, – вздохнула я.
Степан действительно собирался ехать, только когда, пока не знал. Он обещал обязательно взять меня с собой до Прони, а там они пойдут на север, а мне на запад, если к Михайловке.
Мы задержались в их доме допоздна, там было тесно, душно, шумно, но как-то по-домашнему… У Степана, кроме его Олены, жили еще мать и две сестры, одна из которых Прасковья только что родила, ребенок все время пищал в люльке, подвешенной к потолку, у Прасковьи еще были две маленькие девчонки, я не поняла, то ли двойняшки, то ли погодки, года по три-четыре. Да к ним пришла поиграть соседская девочка, тихая, какая-то пугливая Маняша. Вторая сестра Степана была беременна, как и сама Олена, которой тоже скоро рожать. Вот будет детей в доме!
Я сообразила ради развлечения рассказать малышам сказку про Колобка. Это привело девчонок в такой восторг, что потребовалось продолжение. Пришлось срочно вспоминать детские сказки, причем рассказывать их надо было осторожно, потому как ружей у охотников в Красной Шапочке быть не могло, как и многого другого. Но у меня уже был опыт общения с маленьким козельским князем, потому сказки про рукавичку, про хитрую лису, выжившую зайчика из его домика, и даже про трех поросят пошли на ура! Аплодисментов, конечно, я не услышала, зато вокруг собрались не только девчонки, но и взрослые тоже.
В какой-то момент я сообразила, что ближе всех остальных, буквально прижавшись к моей ноге, стоит соседская Маняша. В отличие от маленьких, но довольно крепеньких Степановых племянниц, эта малышка была, что называется, кожа да кости, только что не светилась насквозь. Рубашонка старенькая, все застиранное, ветхое, в косице в качестве косоплетки дрянная веревочка. Я привлекла девочку к себе и, рассказывая очередную небывальщину, вдруг принялась переплетать ее тонюсенькую косичку. Маня замерла, боясь не только пошевелиться, но и вообще вздохнуть.