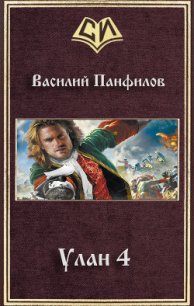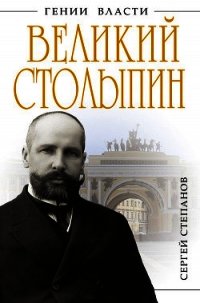Детство 2 (СИ) - Панфилов Василий "Маленький Диванный Тигр" (книги бесплатно без TXT) 📗
— Подать как версию? — Склонил голову Постников, один из редакторов «Русских Ведомостей», будто прислушиваясь к невидимому собеседнику, — А пожалуй, что и да!
— Подача, — Он прищёлкнул пальцами, акцентируя внимание, — как одна из версий, нуждающаяся в серьёзной проверке, дабы окончательно обелить честное имя промышленника.
— Честное, — Фыркнул Гиляровский, по котячьи морща лицо, — скажете тоже!
— Я много чего могу сказать, — Усмехнулся редактор в седые усы, — Нам важно дать информацию как бы промежду строк, без возможных юридических последствий, но абсолютно притом прозрачно для читателя!
— Зачем? — Отставив чашку, негромко интересуюсь у меланхолика.
— Подача как бы между строк заставляет читателя чувствовать себя причастным тайнам, — пояснил тот, — Как бы тебе попроще…
— Спасибо, всё ясно.
— Н-да? — И взгляд — такой, будто пугало заговорило.
— Егорка! — Махнул мне рукой Владимир Алексеевич, — Ко мне? Погоди тогда, заметку напишу.
Закончив быстро, он долго потом ругался, отстаивая самые солёные выражения и словечки, ссылаясь на авторскую подачу и виденья матерьяла. В ответ ссылались на цензуры и штрафы, но до матушек ни у кого не дошло.
Исчерканный лист был поправлен, а потом ещё раз, и вот уже Владимир Алексеевич подхватывает меня под локоток и тащит прочь, выискивая свободный кабинет.
— Рассказывай, — Он седлает стул. Начинаю, как на духу.
— Тяготишься? — Перебивает меня.
— Вас? Нет. Вообще опеки.
Бормотание што-то вроде «сам такой же», и кивок. Рассказываю про свои мысли с опекой, про зависшево с документами Саньку, про несданное мастерство.
— Ход твоих мыслей мне понятен, — Гиляровский барабанит пальцами по спинке стула и задумывается, замолкая ненадолго, — Мне помнится, ты говорил, что у тебя неплохо с математикой и языками?
Угукаю, и Владимир Алексеевич начинает было екзаменовать меня, но сам быстро конфузится.
— Н-да, — Он смущённо дёргает ус, — уел! Устроил экзамен, да сам же и обмишурился! Опекун хохочет громко, и от всей души, да и я улыбаюсь неуверенно.
— Везде так?
— С ямами и яминами, — Признаюсь ему, — Математика и точные науки — да, за прогимназию хоть сейчас, да и за гимназию, пожалуй.
— Даже так? — Острый взгляд.
— Ну может, за последний класс неуверенно, — Пожимаю я плечами, — Языки за прогимназию уверенно…
— Литература, — Подсказывает Гиляровский.
— Хуже, — Выдыхается мне, плечи опускаются.
— Что так?
— Да ну! Писано барами, о барах и для бар! Натужно почти всё, а проблемы такие, што и тьфу! Некрасов разве што понимает, а остальные…
Машу рукой и отворачиваюсь, расстроено сопя.
— Не без этого, — С ноткой задумчивости соглашается опекун, — но вообще — в силах преодолеть отставание?
— Ну, — Пожимаю плечами, — читать легко, просто глупости всё ето! И сочинения. Я ж видел, как писать надо, так они все такие — гладенькие, но скучненькие. Как ученические перерисовки за так себе мастером.
— Не без того, — Снова повторяет он, — Ну как?
— Ну… если надо, то и да, — Жму плечами.
— Ат-тес-тат, — Раздельно произносит опекун, — Сдаёшь экстерном экзамены за прогимназию, и уже считаешься человеком, достаточно образованным для поступления на службу в какую-либо контору.
У меня начинает бешено колотиться сердце, но Владимир Алексеевич продолжает:
— Полностью дееспособным ты разумеется не станешь, но получишь примерно те же права, что и при наличии аттестата ремесленного.
— Да!
Сам собой вскидывается кулак, на што опекун смеётся. Немножечко странно — так, будто он одновременно рад за меня и ему немножечко неловко.
— А друг твой, Санька? — Интересуется Владимир Алексеевич, взглядом осаживая меня обратно на стул, — Такой же талантливый?
— Он? Шутите! Много больше! Ну то есть не по наукам, — Быстро поправляюсь я, — но зато как художник — ох и ах!
— Н-да? — Озадачивается опекун, вцепляясь себе в густые волосы, — Однако… Ладно, придумаю что-нибудь.
Двадцать восьмая глава
Подгулявший прохожий пхнул нарочито широким плечом, а другой тут же дёрнул за армяк с другой стороны. Всплеснув руками в безнадёжной попытке удержаться на ногах, Иван Карпыч исчез в полутьме провонявшего сцаками и гнилью переулочка.
Били умело. Справный мужик и не последний кулачный боец на деревне, Иван Карпыч пытался было отмахаться, но ни един из богатырских ударов не попадал по супротивникам. В обратку шли короткие, совсем не замашистые, но очень больные тычки, от которых отнимались руки и ноги, а в утробе всё скручивалось в узел.
Били скучно. Никакого азарта на лицах, а будто бабы сечкой капусту рубят, да надоело им ето до чортиков перед глазами. Скушная, порядком поднадоевшая работа, ни уму ни сердцу.
Били долго. Взрослый, матёрый мужик, привышный ко всякому, уже не пытался отмахиваться, и только скулил, безнадёжно пытаясь прикрыться руками и уползти.
В душе поселился даже не страх, а стылый ужас и полная безнадёга. Не столько даже от боли, сколько от етой самой безнадёги, невозможности хоть как-то ответить. Даже в самых прежестоких драках с кольями и кровищей, противнику доставалось немногим меньше. И азарт с обеих сторон, злоба.
А здесь от бьющих плещется скука в каждом движении. И потихонечку приходит понимание, што если надо, будут бить вечно. Не умом, в душе где-то.
Болезненный тычок куда-то вниз живота, и Иван Карпыч со стыдливым ужасом понял, што обосцался. Как маленький. Несколько бесконечных минут спустя, и последовал очередной тычок, от которого шумно опорожнился кишечник.
Снова удары, и понимание — забьют. Вот так вот просто, чуть не на глаза проходящих мимо проулка людей. Насмерть. Или хуже тово — покалечат, оставят гадящим под себя, шарахающимся от каждого резково движения.
Он заскулил и свернулся клубочек. Окровавленные губы выплёвывали бессвязные униженные мольбы. Сами, помимо головы. Сломался.
Короткая заминка, и мужика с лёгкостью неимоверной вздёрнули вверх за ворот. То не противился, пытаясь удержаться на подкашивающихся ногах и мотыляясь вслед малейшему шевелению руки.
В заплывших глазах застыл ужас и покорность судьбе. Сейчас его можно толкнуть к петле, и он сам просунет голову и сделает шаг. Только бы всё закончилось!
— Тля, — Перед глазами Ивана Карпыча появился ещё один мужчина, глядящий брезгливо, как на испачканную в говне подмётку сапога, — насекомое. Ты насекомое?
Безжалостные, совершенно зачеловеческие глаза оглядели Ивана Карпыча с ног до головы, и тот понял, што вот он — ужас! Этот… это… самое страшное, што он видел в жизни. Глянешь вот так издали — купец средней руки, а в глаза — не иначе как Сам!
— Да-а… — Выдавил крестьянин, со страхом и надеждой ощущая подкатывающее беспамятство.
— В глаза, насекомое!
Его встряхнули, и мужик собрался остатками сил.
— Да-да, — Зачастил он, — в глаза, барин… в глаза…
Проснулась вбитая поколениями раболепная покорность к тому, кто Имеет Право. Бить. Вешать. Насиловать. Обрекать на голодную смерть. Потому как за ними вооруженные гайдуки, солдаты, пушки.
Сейчас тот, кто Имеет Право, встретился Ивану Карпычу в замусоренном переулке. С гайдуками.
— Так почему же ты, насекомое, — Начал выплёвывать слова Сам, — влез в дела людские?
Слова эти сопровождались пощечинами, от которых мотылялась голова у Ивана Карпыча. Несколько раз Сам ударил лично, потом заместо нево подошла явственная проститутка. Скалясь с бешеным весельем, она встала рядом.
— Почему, насекомое?
В етот раз ударила баба. Унижение для справново мужика страшенное, но Ивану Карпычу всё равно. Потому как не она, а Сам через её руки!
— Помилуй, барин, — Заскулил он, — не знал… скажи тока, какие твои дела… век Бога… пощади!
— Тля, — Сам приблизился, и у Ивана Карпыча нашлись скрытые резервы, штаны стали чуть тяжелее, — ответь мне. Ты племянника жены своей в город запродал, так почему же снова в его жизни появился?