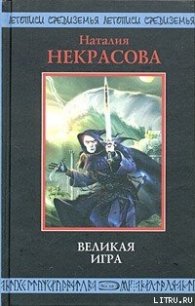Ратные луга - Алексеев Олег (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
В Подлешье верили в домового, лешего, водяного, в шишиг и ржаных девушек. Зимой возле прорубей втыкали в снег вересовые лапы, пугали водяного. Лешего и шишиг запугивали стрельбой — по весне, в духов день, когда выгоняли скот на молодую траву. Летом, в купальскую ночь, жгли буи связки смоленого корья и соломы, девушки голыми купались в озере.
Мать вспоминала гулянье, когда на холмах горели костры и девушки прыгали через огонь.
Я легко представлял эти костры, перед самой войной мать и отец водили меня в цыганский табор, и мы засиделись у огня до ночи.
В деревнях жил обычай жечь костры в вешнюю ночь. В первую военную весну костры вспыхнули на каждом холме. Фашисты испуганно смотрели на огни, но не стреляли. В огненную ночь двое молодых полицаев подожгли мост, который охраняли, и ушли в партизаны. Фашисты увидели пожар, но гасить не стали, думали, что это огромный костер.
Помнил я и другие костры — почти бездымные, потаенные, заметишь, лишь когда обожжешься.
Вспомнив войну, я понял вдруг, что видел прошлое наяву. Весной и летом сорок третьего года, кто мог держать оружие, ушли в партизаны, и в ярости фашисты выжгли Синегорье дотла, не осталось даже целой изгороди. На месте деревень чернели пожарища, вокруг лежала дикая зеленая пустыня, лишь местами виднелись узкие нивы. Люди, спасаясь от угона, прятались в лесах, жили как в глубокой древности.
Когда горел наш дом, наша семья — мать, братишка, сестра и я сам едва успела убежать в лес. Почти целый день мы плутали по мшарам, пока не вышли к густой еловой гриве.
В чаще под елками прятались шалаши, я впервые увидел шалаш, сплетенный из ивовых прутьев. В шалашах был постлан еловый лапник, устроены моховые постели. Скот — чудом уцелевшие коровы и овцы — стоял под елками в выгородках.
Когда поспела рожь, ее жали по ночам серпами, как в старое время. Снопы молотили цепами, зерно провевали на ветру. Пищу готовили на кострах, хлеба не было, мяса не было, только молоко, картошка и рыба. На болоте собирали ягоды, в лесу рвали орехи. По ночам зуб на зуб не попадал от холода. Чтобы согреться, люди стелили мешковину на месте прогоревшего костра, ложились словно на печь.
Когда появилось зерно, партизаны придумали строить мельницу. Пил не было — деревья валили топорами. Сруб сделали без единого гвоздя и без скоб. Мельница оказалась не больше бани. Громадным вышло только колесо с крепкими плицами. Плотину построили так, как строят ее бобры, — завалили речку вековыми осинами.
Рядом с мельницей срубили из неокоренных бревен несколько подслеповатых хижин, в них и жили в морозы.
Когда потом, после войны, увидел я в книге рисунок древней деревни, то удивился: слишком он был похож на лесное наше стойбище.
Когда ставили мельницу, партизанам понадобились инструменты и металл.
— А вон его спросите, — показала на меня пожилая женщина. — С железом только не спит, видать, кузнецом вырастет.
У меня и вправду, чего только не было напрятано в окопах и в лесу: с радостью передал партизанам станок от пулемета, жестяную патронную коробку и целую торбу гаек и винтов с разбитого танка.
Когда партизаны устанавливали жернова, я не отходил от них ни на шаг, старался помочь.
Если партизаны давали мне разряженное оружие, я не играл им, я старался понять, как оно действует, как устроен спусковой механизм и затвор.
Мать говорила, что любовь к металлу передалась мне по наследству. Мой отец в молодости был слесарем в Ленинграде, дед чинил замки и ремонтировал охотничьи ружья, а прадед Вася Хохлатый был кузнецом редкого таланта. Мать говорила, что он готов был работать от зари до зари. Чтобы заставить прадеда переодеться, прабабка варила яйцо всмятку, знала, что работливый муж не откажется от лакомства, а в награду требовала снять темную от пота прожженную рубаху.
От матери же я слышал, что в древности в нашем роду было много мастеров кузнечного дела. Вообще тихий лесной край славился кузнецами и оружейниками, недаром самое большое село в округе называлось Славковичи то есть славные ковачи.
Видимо, и название Котельно дано было крепости неспроста, рядом в селе, видимо, делали котлы.
Тому, что я стал инженером, механиком, ни мать, ни родственники не удивлялись: я просто продолжил начатый предками путь…
Вдруг захотелось снова увидеть себя в давнем времени, представить пусть не искусником кузнецом, но, по крайней мере, его учеником или сыном. И снова, едва показалась луна, я сбежал с крыльца, поднялся на сеновал.
Закрыв глаза, увидел темную городьбу, кольцо хижин, белые медвежьи черепа на кольях ограды.
Похожая на черный гнилой стог кузница стояла на отшибе. На дверях кузницы висел огромный замок, но из трубы валил дым, там взаперти работал отец. Люди говорили, что отец не кует, а колдует. Готовясь к работе, отец собирал на огнищах лесные травы. Жег смолу, влезал в кузницу через окно, шептал наговоры, спал в копне сена, ел только кутью и толокно.
Когда отец ковал оружие, я становился свободным.
— Подрастешь — всему научу, — не раз обещал отец…
Светлая теплая ночь стояла над борами. Я подбежал к городьбе, уцепился за выступ, подтянулся, перевалился через гребень, легко спрыгнул вниз, в глухую траву.
Ограда защищала деревню от зверей, но не могла защитить от медведей: их не пугали даже черепа их убитых собратьев…
Вокруг грозно шумел лес, я замер от страха, огляделся. Между елок поднялась луна, залила чащу косым призрачным светом. Я увидел свою одежду, темные босые ноги.
Пересилив страх, двинулся вперед. Была купальская ночь — короткая ночь, когда открываются клады и цветет папоротник. Взрослые говорили, что увидеть цветущий папоротник можно, лишь когда останешься один, двое или трое ничего не увидят.
Я наконец увидел…
По темным листам, казалось, течет холодный зеленоватый огонь, в полутьме роились таинственные вспышки… Но клада не было, золото не открылось.
Рядом, на опушке, горели костры, люди жгли обмазанное дегтем соломенное чучело. Возле костров шумело гулянье… Мальчишки потащили меня в хоровод, но я вырвался, встал в тени под огромной, как зарод, старой елью.
Девушка, на которую я смотрел, стояла возле костра с плечистым стрельцом. Белая его рубаха от огня казалась багряной, на поясе у парня висел короткий трофейный меч. Стрелец прискакал из крепости, чубарый его конь пасся на поляне рядом с деревенскими конягами. Девушка рвалась в хоровод, но стрелец крепко держал ее за руку.
Стрельцы не раз увозили девушек в крепость, уводили до утра в чащу.
Весело кружил хоровод, веселились, дурачились девушки.
Хоровод вдруг рассыпался, люди бросились врассыпную. От леса к кострам летели всадники, земля задрожала от гулкого конского топота. Я в ужасе прижался к корявому еловому стволу, рядом замелькали конские гривы, похожие на горшки ливонские шлемы. Стрелец выхватил меч, но не успел ударить — его сбили конем. Кто-то бросился к костру, голой рукой схватил головню, бросил на соломенную крышу хижины. Отчаянного срубили, огонь сбили плащами. Ливонцы боялись пожара: его увидели бы в крепости.
Всадники спрыгивали наземь, хватали женщин, волокли к хижинам. Огромный, весь в броне, похожий на громадного железного рака детина поймал мою девушку, потащил, словно бьющуюся рыбину.
Не помня себя, я попятился, метнулся к поляне…
Конь дружинника спокойно щипал траву.
— Штой! Штой! — закричали рядом.
Я вспрыгнул в седло, натянул поводья. Чубарый от неожиданности присел, закружился, не желая слушаться незнакомого человека. Ливонцы уже летели наперерез. Ни нагайки, ни шпор у меня не было, спасти могло только чудо. В ярости я наклонился, впился зубами в горячую шею коня. Рядом сверкнул меч, но ливонец промахнулся, словно в сук, ударил в луку седла. Обезумев от боли, конь галопом сорвался с места, врезался в заросли.
Погоня летела по пятам. Ливонцы кричали, палили из пистолей, резали шпорами коней. Конь стрельца стоил всего нашего табуна. По лесу он летел, словно росомаха — перемахнул через ручей, пронесся по трясине, на полный мах покатил по покосному лугу…