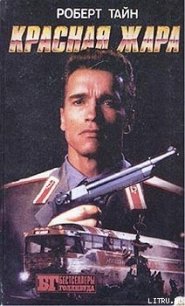Болезнь Китахары - Рансмайр Кристоф (мир книг .TXT) 📗
Как-то раз после такой ночи, поднявшись на палубу перевести дух, он буквально ослеп от яркого утреннего солнца, а когда глаза привыкли к свету, то исчезли, уплыли прочь не только светло-зеленые и оранжево-красные пятна, но и что-то потемнее, тени, черные шары. Синева неба стала безупречной.
В пещерах, коридорах и туннелях машинного отделения мутные разводы в поле его зрения легко и неприметно терялись, пропадали — тени среди многих других теней. Но здесь? В этой синеве? В этом свете? Моррисон оказался прав! Беринг поднял голову — на безоблачном небе парили тончайшие стекловатые шрамчики, и ничто более не препятствовало этому великому свету, не омрачало его взгляда.
Когда он рано утром вернулся в каюту, Амбрас, как всегда в таких случаях, уже куда-то ушел; может, он был на баке, возле якорной лебедки, где нередко часами сидел один, укрытый от ветра фальшбортом, может, в столовой, а может, глубоко в трюме, возле моорского железа. Поскольку хозяин не мешал ни своим присутствием, ни своей болью, Беринг и на этот раз забрался в койку и уснул, но проснулся не как обычно перед полуднем, а много позже, когда уже быстро опускались тропические сумерки: пока он зевнул, потянулся и отвел со лба спутанные волосы, в иллюминаторе успели вспыхнуть звезды.
Лили.
Первая мысль Беринга после этого дня без сновидений была — о Лили. Она отвела его к Моррисону. Она оттолкнула его и обругала, а возможно, еще и ненавидела, точно так же как он ненавидел ее там, наверху, среди карстовых провалов. Но она отвела его к Моррисону. И Моррисон оказался прав. Один-единственный знак... если б она сейчас подала ему один-единственный знак: поди сюда... Он бы пошел. Рискнул бы еще раз подойти к ней — и будь что будет.
Но каюта Лили была пуста. А в столовой аккордеонист распевал какую-то бравурную песню, под которую танцевали две пары, из-за качки то и дело сбиваясь с такта. И торговец из Порту-Алегри, сидевший за столом рядом с Амбрасом, говорил: «Красивая, как бразильянка...» Правда, он имел в виду не Лили, а большую, в натуральную величину, статую Девы Марии, которая лежала в трюме, укутанная в древесную вату и бумагу; сорок семь ящиков, говорил торговец, сорок семь ящиков с изваяниями ангелов и святых, князей, мучеников, полководцев, распятых и спасителей из развалин Центральной Европы, все куплено по сходной цене и уйдет в руки богатых фазендейро, коллекционеров и фабрикантов, разъедется по всей стране, от Риу-Гранди-ду-Сул до Минас-Жерайса, да что там, далеко на север, до Баии и Пернамбуку! Перспективное дело. В зонах и ничейных землях на Дунае и Рейне эти герои и святые способны помочь разве что теми деньгами, какие за них дает рынок. Эмиграция, сказал торговец, переселение... больше там ничего уже не сделать; к примеру, у него в семье только переселенцы кой-чего и добились.
Лили?
Ни Амбрас, ни торговец не видели ее с утра. В иные дни она вообще не появлялась в столовой, ела у себя в каюте или где-то еще, а если приходила в столовую или в курительную, то редко сидела с моорскими, чаще с бразильцами — с туристами, которые возвращались домой после приключений в военных пустынях Европы, или с бизнесменами и «охотниками за головами» , которые искали в зонах рабочую силу, новые рынки сбыта и всякий мало-мальски пригодный хлам. Словарь и карта Бразилии всегда были у Лили под рукой, и постепенно она успела посидеть почти за всеми столиками, потолковать почти со всеми не слишком многочисленными пассажирами «Монти-Неблины» и давно начала говорить с ними по-португальски, в том числе и с торговцем из Порту-Алегри, который наверняка понял бы даже моорский диалект.
Но когда Беринг в этот вечер наконец отыскал ее на пеленгаторной палубе и хотел сообщить, что дыры в его взгляде, как и предсказывал док Моррисон, закрылись, она смотрела на белый тающий след кильватерной струи, смотрела безмятежно, отрешенно, будто и не замечая его, Беринга, — и он не произнес ни слова. Он видел перед собой Лилины черты отчетливо и все же в глубокой тени, словно тьма, ушедшая из глаз, теперь дымным маревом вновь поднималась из недр его существа, омрачая лицо потерянной возлюбленной, и море, и небо, и весь мир.
Он резко отвернулся и пошел прочь, спустился в машинное отделение и не один час просидел там на железной лестнице, не желая слышать ничего, кроме глухого буханья поршней, и беленец-машинист сообразил, что сегодня ночью пассажиру не до разговоров. Беринг сидел, и вслушивался в громовую симфонию дизеля, и различал в ней густые, басовые и пронзительно-высокие металлические голоса, однако ж ни один из них не отдавался болью в его ушах. А когда судно угодило в отроги тропической бури и началась сильная качка, он не стал цепляться за поручень, а ловил ухом временами долетавшие вниз раскаты грома, не путая их со стуком поршней, и при этом покачивался между поручнем и стальной переборкой, как маятник, как спящий. Но не спал. Сидел с открытыми глазами, пока море опять не успокоилось. Наверху , должно быть, близился восход.
Только теперь он встал, будто наконец услышал сквозь шум дизеля свое имя, поднялся из жары машинного отделения в лишь чуть более прохладное утро, и стоял, глубоко дыша, возле фальшборта, и думал, что все же видит сон: горы! Черные горы вставали из океана, из дымки перламутровых туманов: гранитные башни, скальные кручи, темные и мощные, как обрывы Каменного Моря. Отшлифованные эрозией круглые вершины, точно медузы, парящие над облаками, превращались средь клубов тумана в спины чудовищ, которые мало-помалу покрывались шерстью деревьев, цветущим мехом в оковах лиан и ползучих растений, облаками кустарника, пальмами.
Близкие и вместе отрешенно-далекие, как сновидение, горы противостояли натиску прибоя, швыряли навстречу сновидцу и его кораблю покрытые джунглями острова, плавучие сады и лениво поворачивались под ветром, показывая бухты и мысы, полумесяцы светлых пляжей. А между водой, скалами и небом, на кромке гор и моря теперь блистали фасады, многоэтажные дома, бульвары, разбросанные по мысам, крутым склонам и берегам бухт виллы, церкви, белый форт, который со своими орудийными башнями и флагштоками дважды тонул в тумане и дважды всплывал вновь, сверкающий и как бы осыпанный не то бликами, не то вспышками дульного пламени. А высоко-высоко над всем этим колыханием облаков, прибоя, стен и камня грезилась пассажиру венчающая одну из вершин исполинская фигура: она раскинула руки — и он полетел ей навстречу, как вдруг чья-то ладонь хлопнула его по плечу и сбросила вниз. И волей-неволей он очнулся от грез. За спиной стоял машинист. Хлопал его по плечу. Смеялся.
Но горы, бухты, раскинутые руки не исчезли. Кустарник на круглых вершинах, непроходимые джунгли, засветился темной зеленью. Скалы остались черны. И машинист тоже остался, где был, и все выкрикивал, ликуя, одно и то же имя, снова и скова, пока Беринг не понял наконец, что этот город, эти бульвары и пляжи и все, к чему он летел, не было сновидением, а относилось к тому, о чем возвещал голос машиниста, который снова и снова кричал Рио , и смеялся, и опять кричал, выстукивая слоги у него на плече: Рио-де-Жанейро!
В доках Рио-де-Жанейро их ждали не солдаты и не генерал, а смуглая женщина и с нею — двое слуг, или носильщиков, в красных ливреях. Женщину звали Муйра, и, когда она сказала свое имя, Беринг было подумал, что так на здешнем языке звучит приветствие.
— Муйра?
Это слово из языка тупи, пояснила она. Означает — Красивое Дерево.
— Тупи? — переспросила Лили.
— Лесные люди, — сказала Муйра. — Жили когда-то здесь на побережье.
— Жили? — спросила Лили. — А теперь?
— Теперь у нас остались только их имена, — ответила Муйра.
Сумрачная женщина, эта Муйра, — смуглая кожа, темные глаза, темные волосы, даже звук голоса какой-то темный, низкий, грудной. Она была ровесницей Беринга, ну, может быть, чуть постарше, и он забыл отпустить ее руку, так и держал в своей, пока Муйра не отняла ее, чтобы показать ливрейным носильщикам, какой багаж нужно забрать.