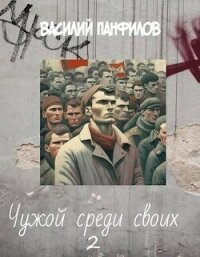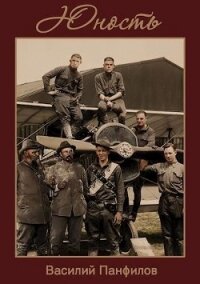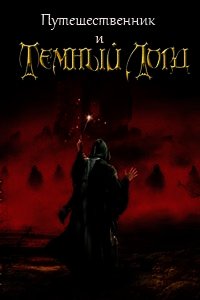Чужой среди своих 3 (СИ) - Панфилов Василий "Маленький Диванный Тигр" (читать хорошую книгу TXT, FB2) 📗
Старшие воспитанники, в большинстве своём не ночевавшие в детдоме, на завтрак не подошли, и гадать, где они, и что они делали ночью, я смысла не вижу. Не факт, к слову, что они обязательно занимались уголовщиной.
Это скорее инстинктивное отторжение детдомовской казённой серости и жажда хоть какой, а свободы. Ночёвка у костра в лесополосе некоторым кажется много слаще скрипучей металлической койки, заправленной чистым, но застиранным до серости бельём, если к ней прилагаются такие же серые, застиранные воспитатели, стоящие над душой.
После завтрака, напившись вместо чая воды из-под крана, отдающей ржавчиной и хлоркой, некоторое время повалялся на кровати, игнорируя правила, запрещающие это делать, и ожидая неведомо чего. Но, вопреки всякой логике, я остался один, от чего в груди поселилось тревожное, ноющее чувство маяты, какой-то неправильности, надвигающихся неприятностей.
Чертыхнувшись, поднялся с постели, и, чуть поколебавшись, поправил одеяло и подушку согласно местным правилам. Нарываться на ровном месте, лишь бы нарваться и качнуть отсутствующие права, особого желания нет…
… хотя не думаю, что это хоть на что-то существенно повлияет.
Не зная, чем себя занять, спустился в холл, принявшись бродить по нему как экскурсант в провинциальном, дрянном музее, коротающий время до отбытия поезда. Рассматриваю и читаю всё подряд, включая скверную и очень казённую, пожелтевшую от времени и солнца стенгазету за майские праздники, в которой, явно руками кого-то из взрослых, была статья про пионера-героя, мученически умершего от рук гитлеровцев.
Понять, почему же, собственно, захватчики пытали, а потом и расстреляли мальчишку, я так и не смог. Написано было пасфосно и плохо, как об одном из тех легендарных, и скорее всего, никогда не существовавших, мучеников раннего христианства, который захотел пострадать за Веру и собственно, стать мучеником. Захотел, и стал!
Аж обидно стало за погибшего мальчика. Там ведь, скорее всего, были партизаны, подполье и какая-никакая, но борьба против гитлеровцев, а в статье — какие-то бестолковые мученические святцы, только что на коммунистический лад.
Здесь же, в вестибюле, портреты заслуженных работников детдома, с краткими или не очень краткими, биографическими справками. Директор, благообразный щекастый старичок, фальшиво-благостным выражением лица похож на матёрого священнослужителя, и мне не глянулся, но впрочем, я пристрастен.
— А, вот оно… — после первых же строк начальственной биографии многие вещи мне стали понятней.
— Комбед[i], значит? Притом, что пятого года рождения? Это что, совсем ещё сопляком начал? А потом ещё и ЧОН[ii]? Однако… изрядно он кровушки попил!
Потом у директора был Рабфак[iii], полтора курса в каком-то невнятном институте, и, скороговоркой, руководящая работа на партийных и хозяйственных должностях. Отсутствие конкретики, насколько я знаю советские реалии, говорит о том, что ценного кадра пинали с места на место каждые несколько месяцев.
— Ценный кадр, — бурчу себе по нос, — особенно…
Затыкаюсь, оглядываясь по сторонам. Вот ведь дурацкая привычка…
Я далёк от того, чтобы мазать всех коммунистов грязью, но вот этот, совершенно конкретный коммунист, даже если каким-то чудом не замарался, или вернее, не слишком сильно замарался в молодости, то, по меньшей мере, можно ручаться, мышление у него, в силу такой своеобразной юности, тоже… своеобразное.
Это, как минимум, апологет звучных фраз, вроде «Лес рубят, щепки летят», «Время было такое», и прочих. Ну и… продвигает, так сказать, в жизнь, Ленинские идеалы!
Давешняя девчонка, подбегавшая к завучу с докладом, выскочила было из спального крыла, но заметив меня, резко остановилась, будто врезавшись с разбега в стену. На лице её, с покрасневшими, припухшими глазами, за несколько секунд пробежала вся гамма эмоций.
— Верка! — окликнули её откуда-то из девчоночьих спален, — Да что ты как маленькая, все…
Они ещё что-то говорили, но неразборчиво, вперемешку со смехом, так что разобрать я ничего не смог, да собственно, и не очень хотел. Сама девочка, резанув по мне яростным, ненавидящим взглядом, раздула ноздри, развернулась через плечо, и, решительно вбивая пятки в пол, пошла назад, скрывшись с моих глаз.
Она ушла, но в вестибюле как-то разом поплохело, будто сама атмосфера стала отравленной. Поёжившись непроизвольно, я поспешил уйти, стараясь не думать о причинно-следственных связях…
… но получалось плохо.
К обеду приехала завуч, заглянув в столовую. Мазнув по мне недолгим, липким, пристальным взглядом, она коротко переговорила с массивной тёткой на раздаче и зашла на кухню.
' — Учёт и контроль', — ёрнически подумал я, проводив её взглядом.
— Отдельно им готовят, — завистливо вздохнула мелкая, от силы лет восьми, девчонка с забавно торчащими короткими косичками, и облизала ложку — так, будто пробуя еду для начальствующего состава.
— Привет! — выдохнул дочерна загоревший и добела выгоревший мальчишка лет девяти, остановившись метрах в двух от меня, — Ты же Миша, да? Тебя Елена Николаевна звала! Она меня из окна увидела и крикнула — сказала, чтоб тебя нашёл и велел к ней идти!
Тощенький, весь, как и полагается в этом возрасте, ободранный, с болячками, ссадинами, но неунывающий, похожий на прыгающего в пыли воробья, он, как Юлий Цезарь, успевал делать сразу несколько дел. То бишь говорить, глазеть на меня и по сторонам, чесаться и отковыривать болячку на коленке.
— Понял, — киваю ему, — спасибо.
Он удивился чему-то, впав на пару секунд в подобие ступора, но быстро пришёл в себя и убежал, пару раз оглянувшись на бегу.
— Можно? — постучавшись в приоткрытую дверь, не спешу входить.
— Да-да… — рассеянно отозвалась завуч, ковыряющаяся в бумагах с занятым видом.
— Здравствуйте, Елена Николаевна, — вежливо говорю я, памятуя о том, что ничто не даётся нам так дёшево, и не ценится так дорого, как вежливость[iv].
— А, Миша, здравствуй! — обрадовалась она неведомо чему, улыбаясь так приторно, что чай в её присутствии можно было бы пить без сахара, — Проходи!
— Как ночь прошла? — поинтересовалась она, и её улыбка стала вовсе уж странной, — Да ты садись, садись…
— Благодарю, — вежливо склоняю голову, и, чуть подвинув стул, сажусь напротив женщины.
— Как ты себя чувствуешь? — чуть подавшись вперёд, жадно поинтересовалась она, не отрывая от меня немигающего взгляда, — Есть какие-нибудь жалобы?
— Нет, благодарю, всё хорошо, — чуть улыбаюсь в ответ, ни черта не понимая ситуацию.
— Да? — она показалась мне какой-то разочарованной, — А то смотри… если что, мой кабинет всегда открыт, и я, как педагог и старший товарищ, всегда готова пойти навстречу.
— Ты пойми… — она доверительно наклонилась вперёд, — чтобы ни случилось в жизни, я всегда готова выслушать и помочь, и разумеется…
Она выделила это голосом и паузой.
— … молчать, если этого требуют интересы воспитанников. Понимаешь, Миша, советский человек всегда готов подставить плечо в трудную минуту, и… не раздувать, понимаешь? Не трубить на всю Ивановскую, не раздувать сенсацию, как это принято в Западной прессе…
Дальше начался какой-то вовсе уж странный разговор, полный каких-то намёков и аллегорий. Я в меру сил поддерживаю его, но всё равно не понимаю ни хрена…
Несколько минут спустя завуч завершила разговор, сделавшийся к своему завершению вовсе уж скомканным.
— Иди… иди, — повторила она, делая жест пальцами от себя, — Но помни! Если что, я всегда готова…
Из кабинета я вышел озадаченный по самую макушку, не понимая решительно ничего. Версий у меня много, но все они пока какие-то сумбурные, обрывочные.
Не уверен, что она отдавала прямой приказ…
… но собственно, ей это и не было необходимо. Знакомя меня с детдомовцами, она сделал всё необходимое, чтобы они поняли — можно!