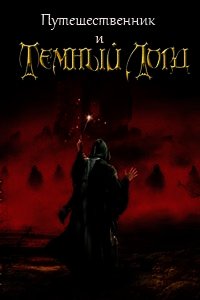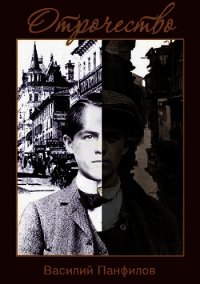Дети Революции (СИ) - Панфилов Василий "Маленький Диванный Тигр" (читать книги онлайн бесплатно серию книг .txt) 📗
[2] Колониальные войска Великобритании, набиравшиеся из добровольцев Непала. Славятся отчаянной храбростью, неумением отступать и выдающими талантами в рукопашном бою.
[3] Револьвер, особенностью конструкции которого являются два ствола. Один — соединён с барабаном, второй ниже, заряжен дробовым патроном. Решение на то время очень удачное, многие историки считают Ле Мат лучшим револьвером времён войны Севера и Юга.
[4] Национальный нож гуркхов. Клинок кукри имеет характерный профиль «крыла сокола» с заточкой по вогнутой грани (то есть это нож с т. н. «обратным изгибом»).
[5] Литовский город, расположенный близ побережья Куршской Косы.
[6] Гранаты известны как минимум с 1405 года, и применялись до середины 18-го века. «Новую жизнь» они получили уже во время Крымской войны, но широкого применения не получили. Гранаты современно типа (то есть не просто чугунный шар с порохом и фитилём) появились только во время русско-японской войны.
Глава 43
— За что, родненькие, за что?! — Истошно кричала женщина в старом салопе[1] из бархата и побитой молью подкладкой из куницы. Немолодая, чуть за сорок, грузная… обычная, много рожавшая женщина девятнадцатого века из дворянской семьи.
— Дочек не трогайте хоты бы, меня терзайте!
Крестьяне смотрели сквозь, оживлённо переговариваясь. Из рук в руки переходили предметы утвари и отрезки ткани.
— Просто так материя висела, — неверяще качала головой молодуха, прижимая к объёмной груди сорванную в гостиной барского дома штору, — просто так! Это ж какие деньжищи?
— Такие, Матрёна, что всю твою семью год кормить можно, — зло отозвался один из мужчин, гладящий реквизированный винчестер, — да нехлебом с лебедой на квас с водой, а ситным[2] хлебом досыта, да щами с мясом.
— Да там же тканей — всей деревне одёжу справить можно! — Не поверила баба, — такие деньжищи-то!
— Деньжищи, — сплюнул мужик, зло глянув на дворянку в салопе, которую привязывали к столбам веранды рядом с визжащими дочками, — это для нас большие деньги, на которые можно семью накормить и соседям помочь, когда они весной с голодухи загинаются. А для этих… сама видела, сколько роскоши. Мягко спали, сладко ели и ходили весёлыми ногами в часы народных бедствий. Нашим трудом наживались, на нашей кровушке откормились… упыри.
Деревенские деловито грабили поместье, особым спросом пользовалось то, что можно приспособить в нехитром крестьянском хозяйстве. Драгоценная фарфоровая посуда, стоящая несколько сот рублей, вызвала восхищённые возгласы и разобрана всеми присутствующими.
— В красном углу[3] поставлю, — довольно сказала беззубая старуха, пряча расписанную пастушками тарелку за пазуху душегрейки.
Дворянок, вопреки их ожиданиям, не терзали. Привязанные женщины тихо подвывали, глядя на тела мужской части семьи, сложенные тут же, на веранде. Взявшиеся за оружие при виде крестьян, застрелить они успели только горластую Аграфену, выскочившую из рядов, да ранить бобыля[4] Семёна.
В толпе имелись охотники с плохонькими, но ружьями. Отставные солдаты из тех, кто вернулся всё же в родную деревню, не пополнив в городе сословие мещан. Зайцевских смяли моментально, из мужчин рода служил только парализованный, престарелый Аркадий Фемистоклович, да глава семьи числился где-то во время Крымской.
— Да они не грабят, — с ужасом подумала старшая Зайцевская, — они… делят!
Грабёж идёт наспех, наскоро. Быстрей урвать да спрятать, пока войска не пришли. А тут — спокойная деловитость людей, не ожидающих кары от властей. Людей, делящих своё имущество.
— Не убивайте, родненькие, — в голос завыла Ираида Степановна, понявшая, что в живых их никто оставлять не собирается, — не убивайте! Оставьте нас живых с доченьками, мстить всё одно некому!
Крестьяне Теребеневки не прислушивались к женщине и похоже, просто не слышали. Так, шум природы.
— Что мы вам сделали? — Пыталась докричаться дворянка до крестьянских душ, — по совести всегда жили! Когда голод пять лет назад случился, мы кормили вас!
Молчание… только раненый Семён, уже перевязанный и причастившийся (единственный из присутствующих!) господским вином, остановился около Зайцевских.
— Сделали что? — Пьяненько переспросил он, подтащив к дворянкам кресло качалку и осторожно усевшись в него, — ишь ты, как в колыбели! Ловко придумано.
— Душа в душу жили! — Ираида Степановна попыталась поймать взгляд бобыля, уже забывшего о них, — кормили!
— Вы? Землицу, значит, мы пахали, а кормили вы нас? — Засмеялся Семён, — на барщине мы спину гнули да оброк платили, а кормили вы?
— Ну так земля наша! Самой Екатериной Великой предку моего мужа подаренная!
— Великой, — выплюнул бобыль, — Блудница Вавилонская, людей полюбовникам своим раздавала! От века свободные жили, землю пахали, а тут на тебе… рабы!
— За заслуги военные, — пыталась достучаться до пьяного разума мужика дворянка, приводя весомые, вбитые ещё в женской гимназии аргументы, — времена тогда такие, что без крепостничества никак. Ради единства государства…
Полыхнувшие бешенством глаза бобыля показали Зайцевской, что она несколько увлеклась. Аргументы, принятые в дворянских семьях за аксиому, немного иначе звучат для крестьян.
— Пока поместья в кормление[5] раздавали, да дворяне служили, мы ещё терпели. А после терпелка кончилась, — прошипел бобыль, — Много твой муж отслужил в Крымскую? Ась? А я вот вернулся оттуда калечный, спину согнуть не могу, век свой доживаю, никому не нужный. Сын твой служил? Нет… Батюшка у мужа твово? Сызнова нет. Только дед, да и то в гвардейском полку, а те известно как воевали — на танцульках. Ответвствуй мне, с какого ляда это ваше поместье? Землицу эту в своё время у наших прадедов отобрали, да вашим подарили. В солдатчину тоже мужики шли, не баре… Наша эта земля, наша от веку, по закону божескому и человеческому!
Бобыль задохнулся от гнева и некоторое время молчал. На худом его, испещрённом шрамами лице, дёргалась щека. Наконец успокоился и усмехнулся нехорошо, глядя как и другие — сквозь дворянку. Как будто её уже нет на этом свете.
— Вы не люди, — сказал он, вставая, — вы хуже жидов. Те хоть чужие народы грабят, а вы — свой по крови. Не люди вы, глисты.
Делили поместье почти три дня, разобрав даже кирпичи. В целости осталось только веранда с привязанными на ней женщинами. Несколько раз в день их поили из ведра и на этом всё. Без еды можно потерпеть, а вот унижение от опорожнения мочевого пузыря и тем паче кишечника на глазах у всех, терзало хуже голода.
Проникнувшаяся надеждой, что их всё же оставят в живых, Ираида Степановна поняла свою ошибку, когда к веранде начали сносить древесный мусор. Взвыв в голос, начала то проклинать крестьян, то обещать всяческие блага за освобождение.
Слушать никто не стал, сельчане обложили веранду обломками досок и щепками, после чего чуть в стороне разожгли костёр. Выборные от каждой семьи подходили туда с факелами и поджигали, после чего выстраивались молча вокруг веранды.
— За мово Ивана, — сказала пожилая женщина, глядя прозрачными глазами сельской святой сквозь Зайцевских, — которого ты в карты проиграл[6].
— За деда Пахома, коего твой дед запороть на конюшне велел, — вышел молодой парень с пробивающейся русой бородкой на скуластом лице.
— За мужа мово, Фёдора, которого ты в солдатчину сдал, — ещё одна пожилая женщина.
Люди всё выходили и выходили… У каждого из бывших крепостных имелись личные претензии к господам. Запоротые до смерти родственники, сосланные на каторгу[7], отданные в солдатчину, проигранные в карты. Были проступки помельче, вроде права первой ночи, коим баловался с дворовыми девками Зайцевский в молодости. Желать смерти всему роду есть причины у каждого присутствующего, да весомые.
Одновременно поднесли факелы к древесной куче и подожгли. Вой помещиц стал громче, хотя куда уж… Крестьяне стояли молча, глядя на былых господ и только крестились изредка, шепча молитвы. Ни у кого не дрогнуло лицо от жалости или ощущения неправильности поступка.