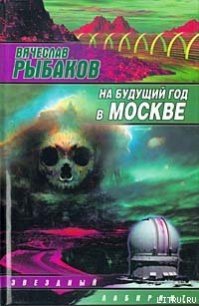Гравилет «Цесаревич» - Рыбаков Вячеслав Михайлович (книги бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
— Хорошо, — он наконец стряхнул в пепельницу длинный белый хвостик пепла, уже изогнувшийся под собственной тяжестью. — Я как-то упустил… Ведь коммунизм начинался как экономическая теория.
— О! — я пренебрежительно махнул рукой. — Ополоумевшая от барахла Европа! Похоже, Марксу поначалу и в голову ничего не шло, кроме чужих паровых котлов и миллионных состояний! «Бьет час капиталистической собственности. Экспроприаторов экспроприируют»! В том, что коммунисты отказались от вульгарной идеи обобществления собственности и поднялись к идее обобществления интересов — львиная заслуга коммунистов вашей державы, государь.
— Ленин… — осторожно, будто пробуя слово на вкус, произнес император.
— Да.
— Обобществление интересов — это звучит как-то… настораживающе двусмысленно.
— Простите, государь, но даже слово «архангел» становится бранным, когда его произносит сатана. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы всем навязать один общий интерес, а о том, чтобы всякий индивидуальный интерес учитывал интересы окружающих и, с другой стороны, чтобы всякий индивидуальный интерес, весь их спектр, был равно важным и уважаемым для всех. Это — идеал, конечно… как и всякий религиозный идеал.
— В молодости я читал какие-то работы Ленина, но признаюсь, князь, они не заинтересовали меня, не увлекли.
Я помедлил.
— Рискну предположить, государь, что в ту пору вы были молоды и самоуверенны. Жизнь представлялась веселой, азартной игрой, в которой все козыри у вас в руках.
— Возможно, — император улыбнулся уголками губ. — При иных обстоятельствах я с удовольствием побеседовал бы с вами об этом, вы изрядный собеседник. Но сперва покончим с тем, что начали. В изложенном вами я не вижу религиозного элемента. Вполне здравое, вполне материалистическое, чрезвычайно гуманистическое этическое учение, и только. Через несколько минут вы поймете, почему я так этим интересуюсь. Скажите мне вот что. Возможен ли религиозный фанатизм в коммунизме, и какие формы он может принять, коль скоро сам коммунизм религиозного элемента, как мне кажется, не имеет?
— Ваше величество, чем отличается этическая религия от этического учения? Лишь тем, что ее догматы опираются на некий священный авторитет, некую недосказанную истину, каковая, в сущности, и является предметом веры — а все остальные предписания уже вполне материалистично вытекают из нее. Священным авторитетом для нас является вид Хомо. Недоказуемой истиной, в которую нужно поверить всем сердцем — то, что вид этот заслуживает существования. Ведь это не из чего не следует логически. Никто не писал этого кометами на небесах. Люди вели и ведут себя зачастую так, словно бы им все равно, родится ли следующее поколение или нет. Презрение к людям лежит в основе такого поведения — подсознательно укоренившееся, в частности, еще и оттого, что все религии рассматривают наше бытие лишь как предварительный и греховный этап бытия вечного. Уверовать в то, что сей греховный муравейник есть высшая ценность — нелегко, а иным и отвратительно. То, что я рассказывал прежде, было от ума — а вот то короткое и главное из сердца, что вы просили, государь, своего рода символ веры. Род людской нуждается в существовании, значит, всякое мое осмысленное действие должно приносить кому-то пользу. И речь идет не только о благотворительности или тупом жертвовании собой. Коль скоро наш сложный социум для своей полноценной жизни требует тысяч разнообразных дел, лучше всего помогать людям я могу, делая как можно лучше свое дело. Значит, всякий мой успех — для людей, но ни в коем случае — люди для моего успеха.
— Достойная вера, — проговорил император, — я мог бы, правда, спорить относительно грешного муравейника как высшей ценности — но спор по поводу истинности недоказуемых истин… или, скажем даже так — равнодоказуемых истин, есть удел злобных глупцов, ищущих повода для драки.
— Истинно так.
— А в целом вы столь привлекательно и убедительно это изложили… все кажется таким естественным и очевидным, что в пору мне принимать ваши обеты.
— Я был бы счастлив, ваше высочество, — сказал я. — Но, боюсь, для российского государя сие непозволительно формально.
Он снова чуть усмехнулся.
— Я наслышан о том, что ваши товарищи в подавляющем большинстве своем являются прекрасными людьми и в высшей степени надежными работниками. Мне отрадно видеть, что влияние вашей конфессии неуклонно растет, ибо ее благотворное влияние на все сферы жизни страны неоспоримо. И теперь я лучше понимаю почему. Но вот в чем дело…
Глаза его опустились, теперь он избегал встретиться со мною взглядом. Помедлив, он вновь достал и открыл портсигар. Протянул мне. Я отрицательно качнул головой. Император, поразмыслив, защелкнул портсигар и убрал.
— Иван Вольфович уже сказал вам, что в круге подозреваемых с самого начала оказались только четыре человека. Один отпал сразу. Двое других уже найдены, допрошены и отпущены, очевидно, они ни в чем не замешаны. Некоторые странности, как мне сказали, были замечены незадолго до катастрофы в поведении четвертого… смотрите, какое совпадение — в моем перечислении, как и в вашем, он четвертый. И этот четвертый исчез.
— Как исчез?
— Его нигде нет. Его не нашли ни на работе, ни дома, ни в клубе… Он не уезжал из Тюратама. И, похоже, его нет в Тюратаме. И он… он — коммунист, Александр Львович. Ваш товарищ.
Я сцепил пальцы.
— Теперь понимаю.
— Я предлагаю вам, именно вам, взяться за это дело, ибо мне кажется, вы лучше других сможете понять психологию этого человека, проанализировать его связи, представить мотивы… Бог знает, что еще. Но именно поэтому я предоставляю вам и право тут же отказаться от дела. Никаких нареканий не будет. Возвращайтесь в Грузию, возвращайтесь домой, куда хотите, вы заслужили отдых. Если совесть не позволяет вам вести дело, где основным подозреваемым сразу оказался член вашей конфессии…
— Позволяет, — чуть резче, чем хотел, сказал я. — Более того, я должен в этом разобраться. Тут что-то не так. Я не верю, что коммунист мог поднять руку на наследника престола… да просто на человека! Я берусь.
— Благодарю вас, — сказал император и встал. Я сразу вскочил. — Как осиротевший отец благодарю, — он помедлил. — За тарбагатайское дело, с учетом прежних заслуг, министр представил вас к ордену святого Андрея Первозванного. Через Думу представление уже прошло, и приказ у меня на столе.
— Это незаслуженная честь для меня, — решительно сказал я. — Первым кавалером ордена был генерал-адмирал граф Головин, одним из первых — государь Петр… — я позволил себе чуть улыбнуться. — Все мои прошлые, да и будущие заслуги вряд ли могут быть сопоставлены с деяниями Петра Великого.
— Кто знает. — Уронил император. — Но я подожду подписывать приказ до конца этого расследования, — он нарочито помедлил. — Чтобы не отвлекать вас церемонией награждения… — Теперь — Бог с вами, князь. Ступайте.
3
Было около трех, когда я вошел в свой кабинет. Усталость давала себя знать, и кружилась голова — почти бессонная веселая ночь накануне, Джвари и Сагурамо, Ираклий и Стася, киндзмараули и ахашени, а потом, судорожным рывком, словно кто-то казацкой шашкой полоснул по яркой театральной декорации, вновь МГБ и эта странная аудиенция… Сколько всего уместилось в одни сутки!
Но я благодарил судьбу, что это дело досталось мне.
Что-то в нем было не так.
Я вскипятил немного воды, сделал крепчайший кофе, насыпав с горя в чашку сразу ложки четыре. Пока дымящаяся густая жидкость остывала до той кондиции, чтобы пить можно было, не шпарясь, все-таки выкурил еще одну сигарету. Прихлебывая, тупо созерцал, как ползают по воздуху, извиваясь, прозрачно-серые ленты. Платье мое уж высохло, от кофе я наконец согрелся окончательно.
Ватная тишина набухла в кабинете. Даже дождь угомонился и с площади, от окна, не доносилось ни звука.
Стася, наверное, уже спит. Если только не мучается, бедняга, бессонницей снова. Впрочем, вряд ли, она сегодня так устала. Меня вдруг словно кинули в кипяток, перед измученными, пересохшими глазами вдруг ослепляюще полыхнуло ярче яви: в медовом свете южного вечера она проводит по вишневым, чуть припухшим губам: хочешь сюда? Телеграмма уже лежала в шифраторе — но я думал, что целая ночь впереди. Вот он, эта ночь. Зеленое время на табло настольных электронных часов мерно перепархивало с одной цифры на другую. Три двенадцать.