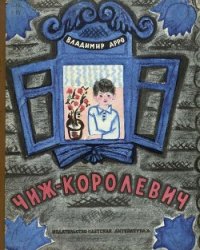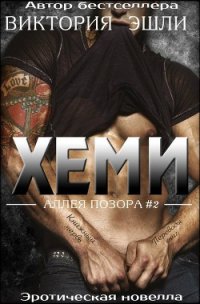Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
Мы научились осторожненько собирать капельки Приказа из ее желез, чтобы потом опрыскивать ними аантропов, дабы охватило их безумие.
А потом пришло такое время, когда путем обмена пленными начали мы пересылать сведения немецким кнехтам, и так вот родилось Дело.
Делу не нужно было давать определений, Дело не нуждалось в манифестах, очевидность Дела являлась каждому, кто на мгновение задумывался, чего может желать кнехт или же не неизменившийся. И ясными тогда делались цели и пути.
Я, понятное дело, умер еще до того, как Дело стало громадным, прежде чем его призрак начал бродить по Европе, но ведь начал же бродить, и видел я, через два десятка поколений неизмененных впоследствии, как сильно боятся Дела аантропы, боятся Дела, сила которого располагается в его очевидности. Они боятся его, поскольку его не понимают — и не нужно излагать его тем, к кому аантропы относятся словно к младшим братьям, не нужно его пояснять.
Итак, Дело росло посреди ничейной земли, то есть в средине Militargrenze (военной границы — нем.), росла, склеенное из ошметков тела Матери Польши, подпитываемое немецкой Blut, которую потихоньку воровали из германских артерий, питаемое плотью, скрытно переносимой почитателями — а если ворованной биомассы не хватало, мы сами давали себя переварить, лишь бы Дело жило.
А оно раздевало наши тела и переваривало все, за исключением мозгов, наши мозги Дело поглощало в собственное тело, впуская в него свои нервы, и запускались наши неизмененные, мужицкие мозги, сопрягались вместе и работали ради Дела. И мой мозг, то есть я сам, тоже впрягался в Дело, погрузился в него, позволил ему войти в себя, вонзить в меня его синапсы и нейроны, которые уже были не польскими и не немецкими, и я желал служить Делу, ибо считал, разделяю, что это излечит мою ненависть.
Не могу я быть такими, как они: как джентльмены, рыцари и аантропы, не могу я быть таким не только лишь потому, что мне это запрещают, но потому, что я к этому внутренне не способен, и даже в тех ветках событий, в которых был я возведен в рыцарское достоинство, а то и королевское, или же в которых рождаюсь я и извечно умираю в качестве аантропа, то чего-то во мне, в средине, не хватает. А раз не могу я быть такими, как они, то когда их уничтожу, то перестану их желать. Не буду страдать, потому что их не будет.
Так что тому Делу, собственно, и желал я служить, потому что Дело было как раз тем. И потому-то позволил я ему себя переварить, разрешил вскользнуть вовнутрь себя его нейронами, обследовать себя изнутри, чтобы принадлежал я только ему, чтобы оно меня заполнило, чтобы я в нем растворился.
Оно же изблевало меня из уст своих [84].
Дело не желало меня. Дело отвергло меня. Я был чужд Делу.
И много раз я пробовал: все жертвовал. Чтобы меня приняли в организацию, я сдал им собственного отца — он был российским губернатором, я же обеспечил им постоянный доступ к его календарю, посредством секретарши, с которой я поддерживал интимные отношения.
И его застрелили, когда в Окенче [85] он пересаживался из бронированного кадиллака в вертолет, застрелили с расстояния в семьсот метров, а мне разрешили глядеть на все это через мощную подзорную трубу. И думал я, что найду свой путь к Делу, через эту дырку, что появилась в его торсе после удара разогнанного до бешенной скорости кусочка свинца. А они, организация, попросту смылись. На малине, где я с ними встречался — я застал лишь пустые стены. Телефоны, по которым мы шифром договаривались встречаться — молчали, пустыми были тайники, через которые мы обменивались сообщениями. Я бы предпочел, чтобы это меня застрелили, убили, чтобы я чего-то не проболтал, не выдал, ибо это означало бы, что я был для них кем-то настолько важным, чтобы меня убить. А я не был.
Но, несмотря на то, что без меня — это Дело росло, а вот Мать Польша с одной стороны и Oberstheeresleitung с другой — были бессильны. Они могли сражаться только лишь друг с другом. И бессильны были аантропы, которые вообще не знали понятий "сражение" или "война" как таковых — то, что им было известно, это война с немцыами или с поляками, понятие "война с кем-то другим" для них было логически непонятным. Так что они не умели сражаться ни с кем другим: панцеры, способные отбить атаку придворной хоругви аантропных польских рыцарей, в отношении Дела были словно жуки, умирающие медленной, направленной ногами к небу смертью. И точно так же: польский аантропный рыцарь или боеход, тысячи поколений совершенствования ради одной цели, для сражений с немцами, в отношении Дела был словно дитя, так легко было его обмануть и обвести вокруг пальца — потому что он вообще не вступал в сражение. Да и как мог он сражаться-с-немцами, когда против него выступал не немец, но выступало Дело?
Так что Дело росло, постепенно заполняло оно всю Militargrenze, отталкивало Мать Польшу от Германии, а Германию от Матери Польши, и, наконец, ударило, поначалу в Германию.
В течение ста лет Дело отравляло кровообращение Германии: от отравленной Крови слабели аантропы, глупели мозги Oberstheeresleitung. Leber grafen и Leber freiherren поражались циррозом, и застывали на поле боя панцеры и церстореры, фрайнахтегери неожиданно теряли цели и намерения, и Германия слабела, Мать Польша же нарастала в силе, пользуясь слабостью Германии, они ведь были словно сообщающиеся сосуды.
Так что росла Мать Польша: переросла уже Эльбу потихоньку росла в сторону Везера, а оглупевшие панцеры и фрайнахтегери были бессильны против польских боеходов и аантропных рыцарей. Хохмейстер, вместо того, чтобы управлять полем боя, писал поэму и впитывал ее в Blut, и опьяненные поэзией фрайнахтегери бросались в безумные атаки на польские панцирные хоругви. Панцерами заведовал сломанный чувством вины ordenstressler — и ставил их на склонах гор Гарца, неподалеку от давнего города Гослар, устанавливал свои панцеры под памятниками, в тех местах, где издали попадали они под взгляды польских аантропных рыцарей, и горели панцеры, и пылали в них аантропные панцергренадеры: с радостью принимая языки пламени, просили они своими еле слышными, пискливыми голосами, исходящими из детских ротиков, просили они прощения.
За тысячи лет тирании, за страдания маленьких матерей и эротических работниц, за кнехтов, к которым относились словно к скотине, и за скотину, к которой относились словно к биомассе, и за растения, к которым относились словно к биомассе, за то, что смыслом существования всего мира было лишь обогащение Blut органическими составляющими.
Так что горели они и просили прощения.
Так что Мать Польша выигрывала битвы, но она не могла потреьить своей добычи, потому что, пожирая оставшуюся после Германии материю, она заражалась Делом.
И на гниющих останках Германии росло Дело, а не Мать Польша.
Дело было всесторонним: если бы Мать Польша захватила замок в Нюрнберге, а в каком-то из исторических сюжетов, которого я не выделяю, несомненно так и было, и если бы польские рыцари вошли в зал Oberstheeresleitung, они могли бы только вытащить мозги верховного магистра, гросскомтура, маршала ордена и орденстресслера и отдать их на съедение следующей за ними Матери Польше. Дело же, вступив в незащищаемый нюрнбергский замок, не разбивало громадной емкости с солями, а попросту вросло в нервную систему Германии, перехватило боевые сенсоры и вычислительную мощность мозгов Oberstheeresleitung: и внезапно панцергренадеры, все так же придавленные чувством вины, вместо того, чтобы искать возможность умереть по причине той же вины, начинают драться против Матери Польши, в которой до сих пор аантроп угнетает неизмененного.
И теперь уже Дело, подкрепленное всем тем, что осталось от Германии, выступает против Матери Польши, а Мать Польша перед Делом беззащитна, но по-другому, чем Германия, вместо того, чтобы полностью пасть, распасться, сгнить и быть переваренной Делом; и Мать Польша поддается Делу: поначалу она героически сражается, отряды аантропов гибнут на первый взгляд героическими, никому не нужными смертями, которые, что ни говори, героическими не назовешь, поскольку не связаны они с каким-либо усилием; аантроп умирает за Мать Польшу так же рефлекторно, как и дышал, и только лишь в стихотворениях и поэмах Иоахима Венгерского появляется драма смерти, поскольку на поле битвы никакой драмы и нет, есть только пуля, которая выстреливается ради Дела из немецкого мушкета, и горит боеход, или же аантроп валится в песок, не зная, что, собственно, сделал, на что осмелился, и вообще не зная ценности собственного поступка.