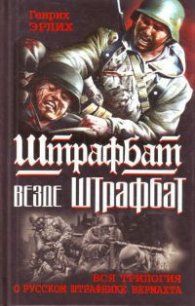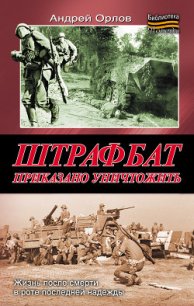Галактический штрафбат. Смертники Звездных войн - Бахрошин Николай (книги серия книги читать бесплатно полностью txt) 📗
Неподалеку раздался шорох листвы, треснула ветка, и я мгновенно приподнялся с травы.
Птица, всего лишь птица, небольшая птаха с желтой грудкой и белыми полосками на голове… Но расслабленное настроение уже ушло, я снова начал невольно прислушиваться и присматриваться к местности, машинально расчленяя рельеф на секторы наблюдения.
Нет, все тихо…
Щука, любимая, непонятная, еще плескалась, а обе наших брони так и стояли неподалеку, вытянув вперед руки и расставив ноги, этакие неуклюжие, металлические пародии на человека с горбами силовых установок, выпуклостями датчиков и соплами грави–форсунок. Теперь я все время косился в их сторону, на всякий случай подвинув к себе поближе винтовку…
* * *
Без оружия человек чувствует себя странно, это я давно заметил. А как иначе? Долгое время ты живешь с оружием, с ним ты ешь, спишь, ходишь, извиняюсь, по нужде, ты сживаешься с ним, как с чем–то обязательным.
Простой пример — вот ты на безопасной планетарной базе, в увольнении, идешь по улице, спокойно идешь, никуда не торопишься. Искоса (в рамках политкорректности!) поглядываешь на девушек, привычно вычленяя из толпы взглядом симпатичные ноги и лица противоположного пола. И солнышко светит, и город живет обычной дневной суетой, и мысли заняты пустяками, пережевывая вчерашнее–позавчерашнее, необязательное… И вдруг тебя охватывает ужас, внезапный, как порыв ветра. Потому что ты — голый! Хуже, чем голый! Ты один, беззащитен, находишься на пустом, открытом месте, где все простреливается вдоль и поперек, а на плече нет даже привычной тяжести автоматической винтовки. И дом напротив — уже не дом, а преобладающая высота, а вот там, на крыше, обязательно должен быть снайпер, слишком удобная позиция, чтобы его там не было, а за углом, выше по улице, обязательно отыщется парочка гранатометчиков, ты бы сам точно поставил гранатометчиков с приказом дать пару залпов и немедленно отходить в переулки! Противник — он не дурнее, нельзя считать его дурнее себя, иначе быстро нарвешься…
Нет, ты сдерживаешься, ты идешь, как прежде, не отпуская с лица одеревеневшую улыбку, но чувство опасности уже сжимается комком в животе и пробегает мурашками по спине. А ты — голый! И начинаешь мысленно обшаривать сам себя: вот есть связка ключей — курам на смех, есть брючный ремень с твердой пряжкой, который тоже почти оружие, есть перочинный нож — хоть что–то… В сущности, ты понимаешь, как все это смешно против обычного автоматчика — ключи, ремень, перочинный нож… Но хоть что–то!
В точности, как голый человек, который оказался вдруг в людном месте и стремится прикрыть хоть чем–нибудь свою наготу…
Потом это проходит. Отпускает. И холодный пот на спине, проступивший от собственной беззащитности, остается только приклеенной к телу рубашкой.
Первое время, когда нас только вывезли с Усть–Ордынки, такие приступы со мной часто случались, потом — реже. Когда я учился на офицерских курсах, почти совсем прошли. Но снова началась война, и все вернулось.
Психоз? Наверное. Даже наверняка. Может, и стоило обратиться к психиатру, предлагали в лагере для перемещенных лиц, но я так и не решился сдать мозги на анализ. Зато выпивать тогда почти перестал, сходив в несколько крутых запоев и чуть не сбрендив. Слишком быстро все возвращалось — и пули свистели над головой, и танки взревывали форсажем силовых установок, и ракетные снаряды ложились кучно, прочно прихватывая в вилку. И все это в условиях однокомнатных квадратных метров холостяцкой хаты!
Опять же, жильцы из соседних блоков бывали не слишком счастливы, когда часа в два–три ночи за стеной или над потолком вставали насмерть на последнем, решающем рубеже обороны…
— Отдыхаешь, мой хороший? Я вскинул глаза.
— Ну вот, теперь я вся чистая, теперь ты даже можешь меня коснуться, теперь — можно…
Щука все–таки выбралась из воды, стояла прямо передо мной, закатное солнце высвечивало всю ее тонкую фигурку, масляно поблескивающую водяными каплями.
Господи, а я–то подумал! Развел тут безмолвный плач по ушедшей любви… А она просто не хотела предстать передо мной потной и грязной! Эти женщины…
Она стояла, и я отчетливо видел три более розовых участка на ее теле — на животе, на предплечье и на бедре, — где явно приляпали после ожогов лоскуты искусственной кожи. По левой стороне ее тела были заметны следы от нескольких шрамов, когда–то глубоко пропахавших плоть и небрежно заделанных в полевом госпитале.
Говорят, в связи с нашей победной войной с непонятным исходом на Земле снова входит в моду искусственное шрамирование, но вряд ли земные модницы стали бы платить деньги за такие отметины, на их взыскательный взгляд это, наверное, выглядит перебором, пришло мне в голову.
Она заметила мой взгляд:
— Любуешься на отметины?
— Да нет, — смутился я. — Чего на них любоваться?
— Правильно, нечего. Ничего хорошего. Сильно портят меня?
— Да нет, я не в том смысле. Что я, отметин не видел?
— А я — в том! — отрезала она. — Просто там, в отряде коммандос, лечиться было некогда, все казалось — потом, успею, не хотелось оставлять своих… А потом — штрафбат, тут уже не до косметических операций. Ты же понимаешь…
— Я понимаю, — поспешил согласиться я.
— Ничего ты не понимаешь, Кир. И пошло оно все к чертовой матери! — жестко сказала Щука. — Извини, любимый, за прямоту, но мне уже надоело ждать, пока ты, наконец, раскачаешься! Не обижайся!
Я так и не успел сообразить, на что мне не обижаться. Она просто прыгнула на меня.
Обрушилась, прижала к земле, прижалась мокрым, упругим, прохладным телом, вдавилась теплыми, жадными губами в мои губы… Эта борьба–объятия мгновенно возбудила меня, и мы покатились по шелковистой траве, сплетаясь телами и вжимаясь друг в друга…
И пошло оно все! — как справедливо замечает моя боевая подруга. Какая такая половая политкорректность, борьба за звание сильного пола с переменным успехом? Откуда оно, зачем оно?
Есть мужчина, есть женщина, и все, что между ними — дело двоих, а не бдительной планетарной общественности…
* * *
— Ну, и что мы теперь будем делать? — спросила Щука.
— Как честный человек и местами даже бывший офицер, я теперь обязан на тебе жениться, — ответил я. — Но я и не отказываюсь, между прочим.
Щука сначала усмехнулась, потом нахмурилась, надула губки и свела в упрямую линию тонкие брови. Потом неожиданно снова заулыбалась, блеснув острыми белыми зубками.
Солнце зашло, и ночь началась быстро, сразу, словно темный купол накрыл и горы, и озеро, и нас с ней. Было все так же жарко, но не душно, просто тепло. Рядом мягко плескалось озеро, вкусно пахло водой, тиной и сладковато–медовым цветением незнакомых трав.
Курорт, одним словом. Если не оглядываться назад, где застыли, будто окаменевшие гоблины, обе наших брони, — полное ощущение курорта…
— Я вот только одного не пойму…
— Чего? — спросил я.
— Какими местами ты офицер, а какими — все остальное?
Я глубокомысленно задумался и потер щеку:
— Это — сложный вопрос…
— Хорошо. Тогда вопрос полегче — что мы теперь будем делать и как будем выбираться с этой чертовой планеты?
— Не знаю, — легко ответил я. — Что–нибудь придумаем, наверное…
— Что например?
Я не ответил. Был сильно занят — водил травинкой по ее обнаженной коже, стараясь защекотать. Ей нравилось это занятие. Она лежала, закинув за голову тонкие руки, и блаженно щурилась, вздрагивая пушистыми ресницами и маленькими коричневыми сосками. Ее тело было распахнуто передо мной, словно откровение, словно книга, раскрытая на самом интересном месте…
— Я помню, каким ты пришел в батальон, — вдруг сказала она.
— Каким?
— Вот таким! — она смешно насупилась, втянула щеки и сделала зверские глаза.
— Неужели я так глупо выглядел? — удивился я.
— Да, — подтвердила она. — Глупее не придумаешь… Ты мне сразу понравился. Наверное, я сразу в тебя влюбилась, — добавила она с великолепным женским презрением к логике.