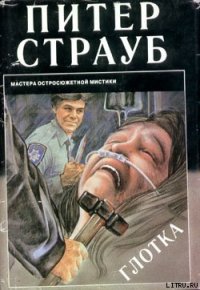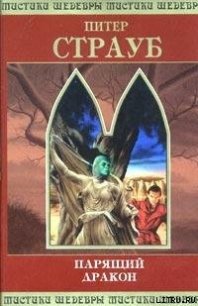Дети Эдгара По - Страуб Питер (читать книги онлайн без .txt) 📗
Она боится любви и потому влюбляется глубоко и часто.
Сейчас её ночные кошмары чаще всего принимают облик белой дамы без лица, которая стоит у её кровати с ножом в руках и хочет убить её, украсть её душу так, как раньше считалось, делает это кошка, стоит подпустить её к колыбели. Дама не исчезает даже тогда, когда наша дочь просыпается, садится в постели и зажигает свет.
Нашей дочери надо спать с кем-то живым. Кошки её предали, они не хотели оставаться в её комнате по ночам. Тогда мы завели ей собаку. Эзру тоже бросили или потеряли, да так и не нашли, и потому он боится всего на свете ещё больше, чем наша дочь, хотя она, по-моему, считала, что это невозможно. Он спит с ней. Прямо у неё под одеялом. Он готов спать у неё на подушке, накрывая собой её лицо, если бы она позволила, а она позволила бы, если бы могла дышать. Она утверждает, что, с тех пор, как Эзра с ней, та дама не появлялась ни разу.
Я не знаю, сможет ли Эзра навсегда избавить её от кошмаров. Но, если она доверится ему, он поможет ей понять, настоящая та дама или нет. А это уже подарок.
Наша дочь многого боится и о многом печалится. Она лучше многих людей принимает боль, впитывает её в себя. Я думаю, что теперь ей предстоит новое испытание, новый вызов — научиться принимать радость. А это страшно.
Поэтому та дама, может быть, вовсе не собирается её убивать. Может, она, наоборот, хочет научить её впитывать радость.
А это, пожалуй, тоже своего рода смерть.
Я знаю, что дама у постели моей дочери реальна, но не хочу пока ей об этом говорить. Она являлась мне в юношеских кошмарах, точно так же, как явился однажды дьявол в образе огромного козла, шести футов в холке. Из постели мне было хорошо видно, как его тело медленно растворяется в воздухе, слой за слоем, сначала волосы, потом шкура, пока, наконец, в темноте не остались одни глаза, огромные, кровавые, почти человеческие глаза дьявола, которые смотрели на меня минуту за минутой, и мне хотелось кричать, но крик не шёл с моих губ.
Кошмары мучили меня годами, пока я не начал экспериментировать с контролем над снами и не научился входить в сон, где я мог двигать его фрагменты и расставлять их в таком порядке, как мне хотелось. Иногда теперь, когда я пишу, мне кажется, будто я в кошмаре и судорожно напрягаю воображение, которое, быть может, мне даже не принадлежит, чтобы сложить кусочки, чтобы всё кончилось так, как надо, или хотя бы как, по-моему, должно.
Если человек на потолке — всего лишь ещё один кошмар, то у меня должны найтись средства остановить его или хотя бы помешать. Но я хожу за ним ночь за ночью. Я вижу, что он делает с моей женой и детьми. И он уже забрал одного из них.
Помните, что я говорил в самом начале. Всё, что мы рассказываем вам здесь — правда.
Я иду за человеком на потолке по мансарде нашего дома, мой фонарик освещает части его тела, которые растут, оказавшись за пределами луча. Я преследую его, когда он спускается на три лестничных марша вниз, в подвал, и прячется в постирочной. Я зарываю руки в бельё и, как сумасшедший, раскидываю его в разные стороны, заранее придумывая, что я скажу Мелани завтра утром, — а он лужицей масла растекается у меня под ногами и скользит к углам, где мои дети хранят свои игрушки. Мне представляется, что я вижу очертания его скулы в огромной кукле, слышу, как его поразительно острые пальцы скребутся под капотами крошечных машинок моего сына.
Но человек на потолке — это история, а об историях я кое-что знаю. В один прекрасный день я соображу, «о чём» он, этот человек на потолке. Он персонаж в грезе нашей жизни, и его можно изменить или убить.
Меня всегда бесит, когда приходится отвечать на вопросы типа «о чём ваш рассказ» или «кто такие ваши герои». Разве стал бы я про них писать, если бы знал это?
Я часто пишу о людях, которых не понимаю, о жизнях, которые ставят меня в тупик. Я хочу знать, как люди придают миру смысл, что они говорят сами себе, как живут. Как называют себя, когда остаются один на один с собой.
Потому что жизнь жестока. Даже когда она удивительна, даже когда прекрасна — что бывает нередко, — она всё равно жестока. Иногда я удивляюсь, как нам удаётся пережить день. Или ночь.
В мире есть: дети, убитые или раненные родителями, которые говорят, что сделали это из любви. Дети, чьи любимые папы, дяди, братья, кузены, мамы тоже любят их, влюбляются в них и говорят: всё, что делают наши тела, это хорошо, ведь мы любим друг друга, только не говори никому, потому что тогда меня посадят в тюрьму, и я не смогу больше любить тебя.
Извращённая любовь.
В мире также есть: дети, чей единственный шанс вырасти — это посидеть в тюрьме, настолько они боятся доверять любви вне её стен. Дети, которые умирают, как бы сильно их ни любили.
Бессильная любовь.
А ещё в мире есть: оборотни, чей невыплеснувшийся гнев делает их меньше, чем людьми, но больше, чем животными (современная психиатрия нередко обнаруживает животное второе «я» внутри раздвоенного сознания). Вампиры, чья ненасытная жажда опыта заставляет их выпивать людей досуха, но им всё мало. Зомби, существа обособленные, которые не чувствуют ничего, потому что не чувствуют боли. Призраки.
Я пишу затем, чтобы всё это понять. Я пишу тёмное фэнтези потому, что оно учит меня, как жить в одном мире с чудовищами.
Но как-то на прошлой неделе, в толчее на переполненной и холодной автобусной остановке в центре города, опаздывая, как обычно, раздражённо роясь в кошельке в поисках проездного, которого там не было, я вдруг, без всякой причины и, разумеется, без всякого осознанного намерения, поднял взгляд к матовому, словно жемчуг, стеклянному фасаду небоскрёба на другой стороне улицы, возносившемуся вверх, вверх, в ярко-голубое небо, и это было прекрасно.
Это была трансцендентная красота. Эпифания. Моментальный прорыв в божественное измерение.
Это ещё одна причина, почему я пишу. Чтобы не лишить себя возможности испытывать такие прорывы. Которые случаются в мире постоянно.
Мне кажется, что я всегда пишу о любви.
Я женился на Мелани потому, что она употребляла слова вроде «божественный» и «трансцендентный» в повседневных разговорах. Я люблю эту её привычку. Она пугает меня, а иногда приводит в смущение, и всё же я это в ней люблю. Когда мы встретились, я был скрытным и пугливым мужчиной — возможно, как и большинство мужчин. А теперь я и сам вставляю иной раз словечки вроде «трансцендентный». С «божественным» пока сложнее.
А иногда я пишу про любовь. Разумеется, я люблю всех моих героев, какими бы жалкими они ни были. (Один писатель спросил меня, почему я всегда пишу о слюнтяях. Я ответил, что всегда пишу о «простых людях»). Иногда я даже человека на потолке люблю не меньше, чем ненавижу, ведь именно он даёт мне возможность видеть. Каждый вечер, с фонариком в руке, я брожу за ним по всем тёмным комнатам своей жизни. Ему фонарь не нужен, так хорошо он их знает, к тому же у него внутри собственный свет; если хорошенько приглядеться, заметишь, как светится в темноте его ухмылка. Я хожу за ним потому, что хочу его понять. Я хожу за ним потому, что у него всегда есть для меня что-нибудь новое.
Как-то ночью я последовал за ним в дальний угол мансарды. Очевидно, там он спит, когда не висит у нас на потолке и не шастает по комнатам наших ребятишек. Там оказалось гнездо из старых фотографий, которые он разорвал зубами на куски, изжевал в пасту и склеил ею одёжки, из которых выросли наши дети, их кукол и плюшевых мишек. Меж ними он и лежал, его огромные бока мерно вздымались.
Я направил на него луч своего фонаря. И увидел крылья.
Они были все в заплатах: куски обгорелых газет, старого белья, металлических дорожных знаков, рыболовных сетей были связаны шнурками, слеплены жвачкой, склеены и прошиты слезами, сажей и пеплом. Человек на потолке повернул ко мне чёрную обсидиановую голову и выдул в мою сторону, как воздушный поцелуй, струйку чёрного дыма.